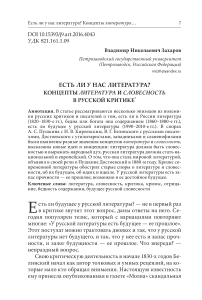Есть ли у нас литература? Концепты литература и словесность в русской критике
Автор: Захаров Владимир Николаевич
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.14, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются несколько эпизодов из полемики русских критиков и писателей о том, есть ли в России литература (1820-1830-е гг.), бедна или богата она содержанием (1860-1880-е гг.), есть ли будущее у русской литературы (1990-2010-е гг.). В спорах А. С. Пушкина с И. В. Киреевским, В. Г. Белинского с русскими писателями, Достоевского с утилитаристами, западниками и славянофилами были выявлены разные значения концептов литература и словесность, высказаны новые идеи и концепции: литература должна быть словесностью и выражать народный дух, русская литература должна стать национальной и европейской. О том, что она стала мировой литературой, объявил в своей речи о Пушкине Достоевский в 1880-м году. Кризис современной литературы обострил старые споры о литературе и словесности, об их будущем, об идеях и идеале. У русской литературы есть запас прочности - ее прошлое; возможно и ее достойное будущее.
Литература, словесность, критика, кризис, отрицание, бедность содержания, будущее русской словесности
Короткий адрес: https://sciup.org/14748983
IDR: 14748983 | УДК: 821.161.1.09 | DOI: 10.15393/j9.art.2016.4043
Текст научной статьи Есть ли у нас литература? Концепты литература и словесность в русской критике
Е с ть ли будущее у русской литературы? — не в первый раз в критике звучит этот вопрос, даны ответы на него. Сегодня популярен тезис, который с вариациями повторяют многие: «У русской литературы есть будущее — ее прошлое». Этот постулат можно трактовать двояко: и так, что у русской литературы нет будущего, и так, что у нее есть и запас прочности, и залог будущности — ее прошлое. Что впереди? — непраздный вопрос.
Свою критическую деятельность в начале 1830-х годов Белинский начал как автор толковых и умных рецензий, на которые мало кто обращал внимания. Настоящую известность ему принесла опубликованная в газете «Молва» скандальная статья «Литературные мечтания» (1834), в которой он провозгласил: «…у нас нет литературы!» [1, 49].
В этом мнении Белинский был не оригинален.
Ранее, за четыре года до него, своими сомнениями по поводу русской литературы поделился критик и философ Иван Киреевский, который писал в годовом обзоре русской литературы за 1829 год:
Будем беспристрастны и сознаемся, что у нас еще нет полного отражения умственной жизни народа, у нас еще нет литературы. Но утешимся: у нас есть благо, залог всех других: у нас есть Надежда и Мысль о великом назначении нашего отечества! [8, 77–78].
На это замечание критика Пушкин ответил с поощрительной, но снисходительной похвалой:
Мы улыбнулись, прочитав сей меланхолический эпилог. Но заметим г-ну Киреевскому, что там, где двадцатитрехлетний критик мог написать столь занимательное, столь красноречивое «Обозрение словесности», там есть словесность — и время зрелости оной уже недалеко [12, 83].
Белинский усугубил тезис И. Киреевского — убрал наречие еще : « У нас нет литературы! », но в последовавших рассуждениях уточнил: у нас есть литература как письменность и книжность — и дал обширный список писателей и поэтов. Далее продолжил: у нас есть литература как собрание шедевров — и назвал их авторов. По мнению Белинского, у нас нет национальной литературы, как понимают этот вид деятельности в других странах: Франции, Германии, Англии, Италии, — нет русской литературы , нет литературы как явления народного духа.
В суждениях Киреевского и Белинского есть сходный посыл. Оба критика видели причину несостоятельности русской литературы в ее подражательном характере.
И. Киреевский красноречиво описал влияние европейских писателей на русских авторов:
Все это живет вместе, мешается, роднится, ссорится и обещает литературе нашей характер многосторонний, когда добрый гений спасет ее от бесхарактерности [8, 72].
Критик ждал от русских писателей произведений европейского достоинства и пророчил:
…у нас есть благо, залог всех других: у нас есть Надежда и Мысль о великом назначении нашего отечества! [8, 78].
Участь русской словесности Киреевский связал с судьбой России:
Судьба каждого из государств европейских зависит от совокупности всех других — судьба России зависит от одной России. Но судьба России заключается в ее просвещении: оно есть условие и источник всех благ. Когда же эти все блага будут нашими , мы ими поделимся с остальною Европою и весь долг наш заплатим ей сторицею [8, 79].
Свои претензии к характеру новой литературы выразил со сходных позиций и Белинский:
Такая литература не может в одно и то же время быть и французскою, и немецкою, и английскою, и италиянскою [1, 51].
Такой национальной литературы в России, по его мнению, нет:
Нет, да покуда, при всех благородных желаниях просвещенных патриотов, и быть не может [1, 117].
В своих суждениях критик был несправедлив: у нас была русская литература как народная словесность, сложилась национальная литература. Однако, провозгласив народность альфой и омегой нового периода, Белинский поторопился завершить Пушкинский период, похоронив поэта уже в 1830-м году; объявил новый период Смирдинским , пугая доверчивого читателя пересказами чужих сплетен о том, что высокими гонорарами Смирдин скупает писателей и убивает литературу. Увы, добрейший издатель-меценат вскоре разорился…
В критике литературы Белинский был прав и неправ, или, как тонко подметил Достоевский, возражая беллетристу А. Авсеенко:
…у Белинского была правда и его заблуждение, а у вас и правда выходит заблуждением [2, 185].
Заблуждения Белинского и его последователей были предметом критики Достоевского, который защищал Пушкина и его « новое слово » в полемике с утилитаристами, нигилистами и западниками, с теми, кто не заметил «золотой век» русской классики, кто писал о «бедности» содержания отечественной словесности.
В споре с критиками «Свистка» и «Русского Вестника» Достоевский возражал, что наша литература «не такая мизерная», «совсем не скудная», называя имена Пушкина, Гоголя, Островского, «много и прежних и новых» писателей, «которых не отвергла бы любая европейская литература»:
У нас уже давно сказано свое русское слово. Блажен тот, кто умеет прочесть его [3, т. 5, 86].
Русская мысль уже во многом заявила себя [3, т. 5, 87].
Русская мысль уже начала отражаться и в русской литературе и так плодотворно, так сильно, что трудно бы кажется не заметить русскую литературу, а вы спрашиваете: «что такое русская литература»? Она началась самостоятельно с Пушкина. Возьмите только одно в Пушкине, только одну его особенность, не говоря о других: способность всемирности, всече-ловечности, всеотклика. Он усвоивает все литературы мира, он понимает всякую из них до того, что отражает ее в своей поэзии, но так, что самый дух, самые сокровеннейшие тайны чужих особенностей, переходят в его поэзию, как бы он сам был англичанин, испанец, мусульманин или гражданин древнего мира. Подражатель, — скажут нам, — отсутствие собственной мысли. Но ведь так не подражают. Он является везде en maître1, так подражать, значит творить самому, не подражать, а продолжать. Неужели такое явление кажется вам несамостоятельным, ничтожным, ничем? В какой литературе, начиная с создания мира, найдете вы такую особенность всепонимания, такое свидетельство о всечеловечности и главное в такой высочайшей художественной форме? Это-то и есть, может быть главнейшая особенность русской мысли; она есть и в других народностях, но в высочайшей степени выражается только в русской, и в Пушкине она выразилась слишком законченно, слишком цельно, чтоб ей не поверить [3, т. 5, 87–88].
Так писал Достоевский за двадцать лет до Пушкинской речи.
Он с воодушевлением воспринял брошюру Н. Страхова «Бедность нашей литературы» (1868) [3, т. 152, 297, 313], в которой была предпринята попытка поставить под сомнение оценку, вынесенную в заглавие этого критического труда [13].
С негодованием Достоевский обрушился на суждения А. Авсеенко о бедности содержания нашей литературы:
Это литература-то сороковых годов была бедна внутренним содержанием! Такого странного известия я не ожидал во всю мою жизнь. Это та самая литература, которая дала нам полное собрание сочинений Гоголя, его комедию: «Женитьба» (бедную внутренним содержанием, ух!), дала нам потом его «Мертвые Души» (бедные внутренним содержанием — да хоть бы что другое сказал человек, ну первое слово, которое на ум пришло, всё бы лучше вышло). Затем вывела Тургенева с его «Записками Охотника» (и эти бедны внутренним содержанием?), затем Гончарова, написавшего еще в 40-х годах Обломова и напечатавшего тогда же лучший из него эпизод «Сон Обломова», который с восхищением прочла вся Россия! Это та литература, которая дала нам, наконец, Островского, — но именно про типы-то Островского и разражается г<осподин> Авсеенко в этой же статье самыми презрительными плевками… [3, т. 11, 371].
Для Достоевского категорически неприемлемы подобные оценки.
Для него русская литература стала не только европейской, но и мировой. Об этом он объявил в Пушкинской речи.
Когда в 1820–1830-е годы критики писали о том, что у нас нет литературы, они хотели, чтобы в России была национальная литература, появились писатели европейского уровня, сложилась русская словесность мирового значения.
Сейчас не то: литература пребывает в жестоком кризисе. В прошлом мировая, современная литература провинциальна: о мировом признании и влиянии на мировой литературный процесс можно лишь мечтать. Есть книги, но нет литературы. Есть писатели, но от большинства из них отвернулись читатели.
Кризис литературы — кризис идей и идеала. Великой делает литературу великий идеал (см. об этом: [7, 6–9]).
У нас нет литературы, как понимали ее Киреевский, Пушкин, Белинский, Достоевский, Толстой, какой она стала в 1820–1890-х годах.
Недавно смертью А. И. Солженицына (2008) и В. Г. Распутина (2015) завершилась классическая традиция русской литературы.
Что будет? Станет ли постсоветская литература русской? Куда приведет авторов постмодернизм? Что, кроме повторения известного, предложат современные писатели, серьезно относящиеся к ремеслу? Где открытия? Где эти дерзновенные писатели? Где словесность?
Литературных премий много; непрерывны состязания; лауреаты, как правило, достойны; можно издавать, что хочешь и где хочешь, но где читатели? Почему хорошие книги не становятся бестселлерами? Даже нобелевских лауреатов по литературе за сто лет накопилось столько, что их легко забывают критики и читатели. Писатели множатся, и многие стали райтерами (от англ. writer — писатель): спичрайтеры обслуживают власть и бизнес, бригады райтеров заняты в издательских и телевизионных проектах, пишут вариации на чужие тексты, сценарии фильмов, сериалов, программ, создают контент сайтов. То, что они делают, не имеет отношения ни к литературе, ни к журналистике: пишут тексты, создают контент, — возникла « новая» письменность , которая принципиально не нова, в которой текст порождает текст, — и так до бесконечности.
К этим проблемам прибавим мировые тренды: бумажные книги стремительно уходят с рынка, за цифровые копии в Интернете не хотят платить, не все могут и хотят отдавать свой интеллектуальный труд в бесплатное пользование. Появилась такая «особь», как писатель без читателей.
То, что происходит в школе, умножает масштаб проблем. Безграмотных выпускников школ из года в год становится все больше и больше; результатом бездумных реформ в образовании стало то, что читать и понимать написанное приходится учить не в школах, а в университетах.
Современные беды ничтожны в исторической ретроспективе [9]; [10]; [11]; [4]; [5]; [6], и было бы странно не одолеть их.
Вопреки технологическим реформам и трансформациям, литература сохранится как письменность (и традиционная, и «цифровая»), как книжность (в полиграфическом и электронном исполнении), как вид творчества, от которого читатели всегда ждут новых шедевров.
У русской литературы есть великое прошлое — возможно и достойное ее будущее.
Примечания
* Исследование выполнено по гранту Министерства образования и науки России «Новые источниковедческие и текстологические исследования русской словесности XIX–XX веков» (№ 34.1126).
-
1 как мастер ( фр .).
Список литературы Есть ли у нас литература? Концепты литература и словесность в русской критике
- Белинский В. Г. Собр. соч.: в 9 т. -М.: Худож. лит., 1976. -Т. 1. -С. 47-127.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. -Т. 24. -Л.: Наука, 1982. -520 с.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 18 т. -М.: Воскресенье, 2004-2005. -Т. 5. -752 с.; Т. 11. -800 с.; Т. 15. -Кн. 2. -528 с.
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. -Петрозаводск: ПетрГУ, 1995. -287 с.
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. -М.: Кругь, 2004. -560 с.
- Есаулов И. А. Русская классика: новое понимание. -СПб.: Алетейя, 2012. -448 с.
- Захаров В. Н. Прошлое, настоящее и будущее русской литературы//Современные проблемы метода, жанра и поэтики русской литературы. -Петрозаводск: ПетрГУ, 1991. -С. 3-10.
- Киреевский И. В. Обозрение Русской словесности 1829 года//Киреевский И. В. Критика и эстетика. -М.: Искусство, 1979. -С. 55-79 . -URL: http://philolog.petrsu.ru/pdf2/obozkyr.pdf (30.09.2016).
- Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. -М.: Наука, 1979. -376 с.
- Лихачев Д. С. Будущее литературы как предмет изучения (заметки и размышления)//Новый мир. -1969. -№ 9. -С. 167-184.
- Лихачев Д. С. Заметки о русской литературе//Лихачев Д. С. Воспоминания. Раздумья. Работы разных лет: к 100-летию Д. С. Лихачева: . -СПб.: АРС, 2006. -Т. 3. -С. 453-507.
- Пушкин А. С. Денница: Альманах на 1830 год, изданный М. Максимовичем//Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. -Л.: Наука, 1978. -Т. 7: Критика и публицистика. -С. 76-83.
- Бѣдность нашей литературы: критическiй и историческiй очеркь Н. Страхова. -СПб.: Тип. Н. Неклюдова, 1868. -73 с.