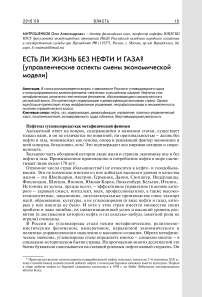Есть ли жизнь без нефти и газа? (Управленческие аспекты смены экономической модели)
Автор: Митрошенков Олег Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 8, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о зависимости России от углеводородного сырья и гипертрофированной влиятельности феномена «нефтегаза» в российском социуме. Нефтегаз стал метафизическим, религиозно-мистическим феноменом, обусловливающим слишком многое в российской жизни. Это препятствует модернизации и диверсификации экономики страны. Однако еще больше препятствует этому неэффективное управление, непрофессионализм и некомпетентность политико-управленческого класса.
Нефть, газ, модернизация, диверсификация, управление, политико-управленческий класс, политическая воля, мотивированность труда и бизнеса, безуглеводородная реальность
Короткий адрес: https://sciup.org/170168511
IDR: 170168511
Текст научной статьи Есть ли жизнь без нефти и газа? (Управленческие аспекты смены экономической модели)
Адекватный ответ на вопрос, содержащийся в названии статьи, существует только один, и он не отличается ни новизной, ни оригинальностью – жизнь без нефти и газа, понимаемых как основа, опора и решающий фактор экономики и всей социума, безусловно, есть! Это подтверждает вся мировая история и современность.
Большую часть обозримой истории люди жили и строили экономику вне и без нефти и газа. Промышленное производство и потребление нефти в мире насчитывает лишь около 170 лет1.
Огромное число стран (большинство!) не относятся к нефте- и газодобывающим. Это не помешало многим из них добиться высокого уровня и качества жизни – это Швейцария, Австрия, Германия, Дания, Сингапур, Нидерланды, Финляндия, Швеция, Япония, Южная Корея, Люксембург, Бельгия, Италия… Источник их успеха, прежде всего, – эффективное управление (в основе которого – здравый смысл, интеллект, воля, профессионализм), а также высокотехнологичные, наукоемкие, интеллектуальные производства плюс экспорт идей, образования, культуры, а не углеводородов (в виде нефти и газа), которых у них никогда не было. И хотя у этих стран имеется множество своих проблем и даже ошибок, их цивилизационный успех и высокий уровень развития (в достижении которого нефть и газ сколько-нибудь заметной роли не играли) очевидны.
В России же углеводороды стали неким метафизическим, религиозномистическим феноменом, императивом, парадигмой экономического и политико-управленческого мышления и массового сознания. Обретя метафизическое значение, углеводороды стали определять многое – слишком многое – в социально-историческом бытии страны. На протяжении многих десятилетий это бытие буквально нанизывается на ставший роковым нефтегазовый стержень. Он не дает себя сломать, оказываясь необыкновенно живучим, обнаруживая себя и на государственном уровне, и на бытовом.
В значительной части отечественного политикума, предпринимательской среды, научного сообщества, СМИ основательно утвердилась мысль о непреходящей роли нефти и газа в экономике и истории страны, о том, что нефть и газ – это «решающий» фактор модернизации страны, в необходимости которой уже мало кто сомневается (даже правительство). «Решающий» в том смысле, что углеводороды либо принципиально препятствуют проведению модернизации («нефтегазовое проклятье»), либо без них «ну никак не обойтись», поскольку они обеспечивают ее (модернизации) финансовую базу. Правда, в этой последней логике непонятно, как другие страны безо всякой нефти и газа осуществили свои модернизации и прорыв на уровень высоких технологий.
Политики, чиновники, ученые, экономисты, журналисты на теледебатах и в СМИ обсуждают вопрос – сможет Россия жить без (сверх)доходов от экспорта нефти и газа, или это маловероятно. Обсуждение редко выходит за рамки этой нефтегазовой мыслительной парадигмы, этого ресурсно-«туннельного» мышления. Вопрос о других основах российской экономики если и ставится, то как-то безнадежно, обреченно – словно заранее предполагается, что от нефти и газа все равно не уйти.
Главные экономические трудности России нередко усматриваются в колебании (падении) цен на нефть и газ (далее для удобства – нефтегаз) и даже в экономических санкциях, т.е. внешних факторах, но не в неэффективном управлении, низком профессиональном уровне политико-управленческого класса, его коррумпированности и жадности, невосприимчивости к инновациям созданной его усилиями социально-экономической и административно-бюрократической системы1, низком пороге восприимчивости властной элиты и бизнеса (особенно крупного) к трудностям населения страны и социальной несправедливости – факторах исключительно внутренней природы и свойства.
Известно, однако, что любые хорошо обоснованные и влиятельные научные теории и методологии – диалектика (Г. Гегель, К. Маркс), синергетика (И. Пригожин, Г. Хакен, И. Стенгерс и т.д.), теории экономических циклов Н. Кондратьева и Й. Шумпетера, волновая теория П. Сорокина, системный подход, теория аутопойэзиса У. Матураны, модель А. Шлезинера и ряд других – утверждают, что открытые системы любой природы функционируют и развиваются благодаря имманентным, эндогенным силам, т.е. внутрисистемным причинам, источникам и импульсам. По утверждению П. Сорокина, после возникновения системы ее естественное, «нормальное» развитие, формы и фазы жизненного пути определяются в основном самой системой [Сорокин 2000]. У. Матурана показывает, что живые системы поддерживают самотождествен-ность, воспроизводя свои компоненты [Матурана, Варела 2001]. А.Шлезингер считает, что волновые процессы в политике обусловлены явлением самоорганизации и сменой поколений [Шлезингер 1992].
Если система развивается естественно, гармонично, никакие внешние (экзогенные), за редким исключением (вроде падения гигантского метеорита, атомной бомбардировки или нашествия гигантских полчищ врагов), угрозы для нее не являются фатальными. Внутрисистемные же дефекты и изъяны способны привести к распаду системы, в таком случае даже легкие внешние воздействия могут оказаться для нее катастрофичными.
Нефтегаз для значительной части российского политического и управляющего класса, бизнеса и общества – масштабный, глубинный, многомерный феномен, онтологически обусловливающий всю экономику и распространяющийся в своих проявлениях и влияниях на всю внутреннюю и внешнюю политику. Нефтегаз не сводится к эмпирическим проявлениям и инфраструктуре. Нефтегаз – это не только то, чем живет часть политического и управляющего класса. Это в большой степени то, ради чего властно-управленческая элита живет. И если полноценная имперскость России вырисовывается сегодня смутно, то при наличии нефти и газа можно потешить свое тщеславие хотя бы усеченным самоназванием «энергетическая держава».
Нефтегаз как феномен представляет собой континуум всепроникающих интенций, совокупность, с одной стороны, материальных и осязаемых, с другой – тонких и незримых взаимосвязей, пронизывающих весь российский социум и в этом случае лишь условно и ситуационно фиксируемых в пространственно-временных локусах. Нефтегаз обрел глубинные основания, коды, матрицы, которые нельзя «пощупать», хотя отдельные показатели и индикаторы для их «замера», вероятно, использовать можно. Судить об этих глубинах нефтегаза можно на основании как прямых, так и косвенных изменений, которые они производят в мире относительно феноменов, имеющих свои вполне очерченные контуры и интервалы и являющихся в свою очередь частичными обнаружениями нефтегаза (банки, биржи, финансовые учреждения, инвестиции, кадры, труд, спорт, искусство, наука, образование, право, мораль, СМИ, реклама и т.д.). Иначе говоря, одни части нефтегаза не только влияют на другие его же части, но и самым серьезным и масштабным образом выходят за собственные пределы.
В силу очевидности одних и неочевидности других влияний нефтегаза на всю реальную жизнь страны последние (неочевидные) просто игнорируются «прагматически» мыслящими представителями управляющего класса и бизнеса (отсутствие стратегического мышления, «игра в короткую» – доходы, деньги нужны «здесь и теперь», негативные последствия отложены во времени, а то, что огромные пласты российской культуры и ментальности оказываются отравленными этими влияниями, – когда это еще проявится! Хотя уже проявляется самым пагубным образом). К тому же эту зависимость еще надо уметь заметить и выявить – подобные влияния довольно трудно поддаются чисто рационалистическим методикам экспериментального верифицирования.
Сегодня нет смысла спорить с тем, что нефтегаз «имеет значение». Вопрос в том, каково именно это значение, как его зафиксировать и что потом с этим делать.
В России нефтегаз чаще всего понимается узко – как буровые платформы и вышки, нефтегазовые фонтаны, трубопроводы, цистерны, хранилища, автозаправки, нефтеперерабатывающие заводы, нефте- и газоналивные танкеры и т.д. Однако нефтегаз – более масштабный феномен российской жизни. Нефтегаз есть метасреда, метаонтология, лежащая в основе обнаружения, «мерцания» в его «субстрате» многих других феноменов и факторов отечественного бытия, культуры, мышления, практики. Нефтегаз – это своего рода картина мира, религия, мировосприятие, миропонимание, образ действия. Нефтегаз, его внутренняя и внешняя логика, функциональные режимы детерминируют (пусть и не тотально) многое в российском обществе – сознание, мышление, логос, язык, мифологию, мораль, искусство, право, экономику, политику, науку, идеологию, образование, спорт, рекламу, СМИ, повседневность, ценности, духовность и т.д. (все перечислить невозможно).
Экспансия материально осязаемого нефтегазового колониализма, распространившегося на всю отечественную реальность, в условиях растущего осознания необходимости модернизации экономики и пока малоэффективных попыток его преодоления оборачивается своего рода колониальностью – менее очевидной реальностью, скрывающейся за риторикой национальных интересов, оправдывающей любые действия с целью преодоления «отсталости» и «вставания с колен» (когда это Россия стояла на коленях?). И если колониализм нефтегаза, как и всякий колониализм, признан в стране феноменом, изжившим себя в свое время (время всяких колониализмов ушло), то колониальность же как его метастазы, остаточное обнаружение осознается и изживается плохо.
Колониальность нефтегаза касается влиятельных и долговременных структур власти, которые возникли в результате его доминирования в российском социуме и определяют экономическое мышление, политику, труд, межсубъектные отношения, продуцирование знания. Эта колониальность живет в ментальности элиты, СМИ, в академических критериях, в культурных паттернах, в здравом смысле и самовосприятии людей, в их надеждах и чаяниях и во многих других аспектах современной жизни1. Россияне «вдыхают» благополучно сохраняющиеся «миазмы» нефтегазовой колониальности всюду и каждый день, ибо даже реклама утверждает, что Газпром – это «национальное достояние» страны, и в телевизионной рекламе, а также на всех стадионах страны во время спортивных состязаний и футбольных матчей отчетливо просматривается его логотип.
В этом контексте России необходимо «масштабное движение деколонизации (деколониальный поворот)»1 – кардинальное переосмысление «проекта нефтегаза», размежевание с «нефтегазовостью» и, прежде всего, с мифом ее онтологической незаменимости.
Нефтегаз осуществляет целе- и смыслообразование в России, диктует свои императивы посредством социальных норм, отношений и права, организуя свое пространство и пространство вокруг себя по принципу «возделывания» индивидов, социальных групп, организаций, регионов, отраслей и сегментов экономики как элементов нефтегазовых структур или связанных с ними социальных единиц. Содержание и функции этих надындивидуальных норм и отношений в немалой степени определяют конфигурацию социальной структуры в целом.
Подобно тому, как человек навязывает вещам и отношениям те или другие прагматические смыслы, оставляя иные потенциальные смыслы нереализованными, нефтегаз вменяет и навязывает стране и индивидам необходимые для развития их же собственных подсистем социальные функции, используя жесткие узы топливно-энергетической зависимости и тем самым блокируя другие альтернативы развития.
Освобождение от этой нефтегазовой колониальности даст возможность – не гарантию! – понять страну более адекватно и глубже и, возможно, совершить, наконец, «русское чудо» модернизации страны, подобное немецкому, японскому, южнокорейскому, сингапурскому.
Уже давно стоящие на повестке дня коренные преобразования страны, отвечающие вызовам времени, означают, что необходимо срочно заполнять лакуны в системном понимании устройства бытия России «в-мире-без-нефтегаза». Такая необходимость была всегда, однако сегодня этот вопрос стоит особенно остро в силу стремительности изменений в устройстве общества, в духовной жизни человека, экономике, технологических укладах, политике. Это тем более значимо в контексте масштабности и эффективности возрастающих субъектных, проективно-конструктивных и технологических возможностей. Это не вопрос методологии или даже экономики. Это вопрос выживания, ибо переустройство плохо понимаемой системы вряд ли может привести к чему-то хорошему. Прояснять, даже частично, существующие провалы в понимании фундаментальных вопросов бытия России «в-мире-без-нефтегаза» следует не мешкая, пусть и ценой некоторого игнорирования методологической безупречности, которая, к слову, возможна лишь в редких случаях или вообще в идеале.
Безуглеводородная реальность
Проблема жизни без нефтегаза и, соответственно, модернизации экономики России – это проблема не вполне экономики.
Это есть системная проблема, включающая, во-первых и прежде всего, применение властью, политико-управленческим классом политической (и административной) воли, во-вторых, употребление властью, бизнесом и наукой интеллекта по этому конкретному его назначению (т.е. для модернизации страны), в-третьих, эффективное управление на всех уровнях1 [Росс 2015], в-четвертых, использование такой системы ценностей, которая обеспечивала бы учет прежде всего интересов целого, т.е. страны, а не только частных, собственных (этим системность проблемы, разумеется, не исчерпывается).
До сих пор, к несчастью страны, это практически не происходило или происходило в высокой степени неубедительно, хотя потребность уже давно перезрела.
В этом контексте экономические санкции (введенные против России в 2014 г. после возвращения Крыма в ее состав и поддержки Донецка и Луганска в борьбе за свои права) – шанс, ниспосланный стране свыше. Санкции призваны побудить политико-управленческий класс и бизнес-элиту России очнуться и стряхнуть с себя нефтегазовый морок-наваждение. Существующая неэффективная экономическая модель и принципы управления российской экономикой и отчасти самой социальной реальностью должны быть не просто трансформированы, а заменены. Все это уже будто бы понятно (по крайней мере, на словах) и власти, и политико-управленческому классу, но, тем не менее, изменения в этом направлении происходят крайне медленно.
Кажется, с зарождения отечественной государственности сама глупость с грохотом покатилась на огромных колесах по коридорам российской власти и управления и продолжает убыстрять свое многовековое победное шествие, поражая сознание и волю уже нынешней властной элиты и управляющего класса без шанса (не хотелось бы верить!) на выздоровление. Снова и снова принимаются и проводятся в жизнь такие управленческие решения, от которых берет оторопь.
Властная элита прощает многомиллиардные долги (Монголии, Кубе, Вьетнаму, Ираку, Сирии, Эфиопии, Сомали, Никарагуа, Киргизии, Узбекистану, Ливии, Анголе, Алжиру, КНДР, даже Кувейту), причем по непрозрачным схемам и правилам – всего за годы новой государственности1 власти России «простили» должникам около 140 млрд долл. США, которые для ее же собственной экономики и народа совершенно не выглядят лишними. Разумеется, аргументы в пользу такой политики элита находит.
К сожалению, властно-управленческая элита России не выдержала искушения нефтегазом.
В силу финансово-спекулятивного характера современной мировой экономики «реальный производитель товарных активов ‹...› исключается и устраняется из механизма влияния на цены. Именно в таком положении очутилась Россия – ее реальная собственность на запасы нефти, добытую нефть и природный газ больше не гарантирует участия в управлении ценами на эту нефть, а следовательно и потоками добавленной стоимости и прибыли от использования экспортируемых страной энергетических ресурсов [Агеев, Логинов, Райков 2015: 6]. К тому же «обрушение цены на нефть задано взаимоувязанной компоновкой ряда макроэкономических мер, реализованных США и Великобританией с участием группы транснациональных корпораций и банков» [Агеев, Логинов, Райков 2015: 3].
Проще говоря, Россия добывает углеводороды, но от формирования цен на них отстранена, эти цены определяют за ее пределами .
Однако нефтегаз по-прежнему остается «колониально»-мистической сущностью, к которой стягиваются, редуцируются силовые линии, смыслы, значения слишком многого из российской жизни, и тем более политико-управленческого класса. Даже наука – и та разрабатывает концепции не просто модернизации, а ресурсно-инновационной модернизации (термин академика А.Н. Дмитриевского [Дмитриевский 2011), которая, по замыслу ее сторонников [Славкина 2013; 2014], предполагает, что поддержание возможностей нефте- и газодобычи «влечет инновационное изменение ресурсных отраслей, что, в свою очередь, определяет модернизацию обеспечивающих отраслей – металлургии, химии, электроники; кроме того, ресурсный сектор продуцирует финансовые потоки для инновационной деятельности в стране в целом. Исторический анализ опыта развития СССР – России второй половины XX в. свидетельствует, что такой симбиоз возможен и периоды наибольшего расцвета этого симбиоза совпадают со временем наиболее успешной модернизации экономики и социальной сферы» [Славкина 2013: 41-42].
Правда, такой подход совершенно обходит вопрос о том, как модернизацию осуществили, причем давно и довольно быстро, страны, в которых нефти и газа и, соответственно, нефтегазовых доходов никогда и не водилось (Япония, Израиль, Южная Корея, Сингапур и др.), и почему этот зарубежный опыт, пусть с поправками, для России не подходит. Эта логика также не объясняет, почему при наличии огромного количества денег в 1970–80-х и в нулевых годах никакой модернизации в стране так и не произошло.
Кое-что, кстати, получается не так уж плохо, например деятельность корпорации «Росатом», строящей атомные электростанции и соответствующие кластеры по всему миру; экспорт отечественных высокотехнологичных вооружений и более 70 млн т зерна в 2015 г.; освоение ближнего и дальнего космоса; эффек- тивное управление демонстрируют Федеральная налоговая служба, Агентство по страхованию вкладов и т.д.
Но вот в корпорации «Роснано» денег много (об этом во всеуслышание на банкете в канун нового 2016 г. заявил ее руководитель А. Чубайс), как и в технопарке «Сколково», «ресурсы» здесь вполне «сконцентрированы». И все же очевидно напрашивается вопрос об эффективности их использования в этих «флагманах» технологического авангарда страны. За немалое число лет ни Роснано, ни Сколково по неведомым никому причинам не заявили о себе во весь голос как центрах технологического прорыва страны – при наличии-то «ресурсов»! По данным Счетной палаты РФ, число поступивших в Роснано заявок на инвестиции с 2010 по 2015 г. сократилось в 34 раза – с 439 до 13. При этом число одобренных по заявкам проектов снизилось в 7 раз – с 44 до 6. Число проектов, по которым осуществлялось финансирование за этот период, также имеет тенденцию к сокращению: с 42 проектов в 2010 г. до 27 в 2015 г. За 9 месяцев 2015 г. финансирование новых проектов не производилось, а только продолжалось финансирование ранее начатых инвестиционных проектов. Объем инвестиций снизился с 2011 г. по сравнению с 2015 г. с 36,34 млрд руб. до 16,7 млрд руб., или более чем в 2,2 раза1.
А ведь надежды на них возлагались огромные! И если они не могут продемонстрировать успех, тем более обеспечить прорыв при наличии более чем щедрого финансирования своей деятельности, то чего можно ожидать от них без такого финансирования?
Вопрос упирается в «мозги» и управление
Здесь необходимо еще раз обратиться к мысли о том, что модернизация экономики и страны в целом есть не только политическая, экономическая, нравственная задача, но и интеллектуально-управленческая. Отечественные бизнес, наука, но прежде всего власть, управляющий класс должны, наконец, «включить» свои мозги и головы и употребить интеллект по его прямому назначению.
В стране очень много талантливых, креативных людей, в управлении же нередко делают погоду, доминируют просто неумные, недалекие люди с уровнем и масштабом мышления советского заведующего складом или овощной базой 1930-х гг. Это мышление попросту не соответствует потребностям вверенного им объекта управления (района, региона, страны, отрасли, предприятия). Управленческая культура таких людей, независимо от занимаемой должности, низка и совершенно не адекватна интересам страны. Их ценностная шкала сводится чаще всего к личному обогащению, к «игре в короткую» и не предполагает ни удовлетворения нужд страны, ни развития корпоративного производства, ни стратегического мышления, ни профессионализма, ни конструктивных действий по реализации значимых проектов.
Так, модернизация отечественной экономики требует принципиального (на порядок) повышения производительности труда во всех ее (экономики) сегментах. Основы любой теории управления говорят о том, что такая производительность зависит от высшего звена управления и управленцев, а вовсе не от работников низшего или даже среднего уровня. Именно управленцы должны напрячь и употребить свой интеллект, чтобы выработать новые идеи и принять эффективные управленческие решения, так организовать, настроить производство, чтобы именно это и позволило реально резко повысить производительность труда. Тем не менее главная причина долгие десятилетия остающейся низкой производительности труда в стране – как раз неэффективное, неадекватное управление на всех уровнях и отраслях российской экономики, связанные с этим высокая степень демотивированности людей и бизнеса и запредельно низкая стоимость труда. А это, в свою очередь, обусловлено низким уровнем управленческого мышления, слабым развитием управленческого интеллекта, провинциальным типом образования и подготовки управленцев1.
Политико-управленческий класс живет в немалой степени иллюзиями. Ему казалось, что в ответ на разворот России (безусловно, важный и необходимый) к Азии Китай выступит кредитором, выделит десятки миллиардов на развитие российского сырьевого сектора, а он не выделил. Что можно девальвировать рубль, но цены при этом не поднимутся – а они поднялись, и довольно резко. Он надеется, что цены на нефть пойдут вверх, поскольку сам себя убедил в том, что «при цене ниже 80 долларов за баррель мировая экономика рухнет», что Запад вынужден будет отменить санкции [Иноземцев 2015: 53]. Но такие «хотелки» свидетельствуют не только о высокой степени иллюзорности политико-управленческого класса страны, но и о его непрофессионализме, а также инфантилизме, поскольку он уходит от решения жизненно необходимых для России проблем и возлагает это решение на нечто, находящееся за его (класса) пределами, на некие благоприятные внешние обстоятельства. В силу этого перспективы освобождения страны от нефтегазовой зависимости в очередной раз выглядят туманными.
Вывод отсюда следует только один – слишком многие представители властноуправленческой элиты находятся не на своем месте, слишком непрофессиональны, не справляются со своими обязанностями и должны быть отстранены от этой деятельности. Особый вопрос в связи с этим – как такие «управленцы» попадают на свои должности. Тайны тут нет, в основном эти люди работают «локтями», «деньгами», связями, лояльностью (до поры до времени). Но ни к чему хорошему это, как показала историческая практика, не приводит, а потому страна должна изменить парадигму рекрутирования властно-управленческой элиты. Приходится также с сожалением констатировать, что институт отставки несостоятельных чиновников-управленцев в стране не работает.
Согласно показателям, рассчитываемым Всемирным банком, по качеству государственного управления Россия находится далеко во второй сотне стран мира. И даже предположение о том, что эти показатели и индексы носят политический, предвзятый характер, ситуацию принципиально не меняет – это управление откровенно слабое, непрофессиональное, вялое, неэффективное, не соответствующее потребностям великой страны и ее населения.
Сами по себе объективные показатели (объем, качество и т.д.) углеводородного потенциала России, его реализации не являются ни тормозом, ни панацеей для модернизации экономики. Громадный нефтегазовый комплекс – это инструмент освоения природных богатств, источник энергетических и финансовых ресурсов. По мере развития мировой экономики, роста ее наукоемкости, интенсификации глобализационных связей использование этого инструмента становится все более сложным, изощренным и требует более тщательной и тонкой системно-когерентной настройки и, соответственно, адекватной государственной политики и эффективного управления.
Разумеется, модернизация и диверсификация отечественной экономики и страны в целом – задача системная, сложная и не имеющая простых решений. Об этом говорят и перманентные неудачи в ее осуществлении. Однако тот факт, что подобные задачи были с успехом решены в целом ряде уже упоминавшихся стран, говорит о принципиальной возможности такого поворота событий.
Современная социальная реальность является в высокой степени проектной, технологичной, завязанной на субъектах разного масштаба. Об этом свидетельствует история самой России последних десятилетий. Проектами были советские пятилетки, овладение атомной энергией, выход в космос, поднятие целины, строительство БАМа и множества гидроэлектростанций по всей стране, разведка и добыча нефти и газа в Сибири и на Севере, вообще устремленность страны в будущее. Проектами также были и распад СССР, либеральные реформы, приватизация, создание класса собственников. Были и более локальные проекты – принуждение Грузии к миру в 2008 г., перевооружение и укрепление боеспособности российских Вооруженных сил, успешно проведенные Универсиада в Казани 2013 г., зимняя Олимпиада в Сочи 2014 г., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г., высокоэффективные действия российских Военно-космических сил в Сирии в 2015–2016 гг. Предстоит Чемпионат мира по футболу в России 2018 г., будем надеяться, что он пройдет успешно.
Все это доказывает, что в стране есть все возможности для решения самых амбициозных задач. И многое из перечисленного работает – в одних случаях более успешно, в других – менее.
Для России здесь значимо то, что к модернизации и диверсификации экономики и страны в целом следует подойти как к в высшей степени экзистенциальному, смысложизненному, но одновременно и технологично-интеллектуальному проекту. Необходимы высокоинтеллектуальные, умные и адекватные решения и столь же высокоинтеллектуальное, умное и ювелирное их исполнение. Необходимо мотивировать нацию и включить ее совокупный интеллект. Следует подойти к этому проекту жестко: волевым образом ограничить время (нельзя «рубить хвост собаке по частям», лучше – сразу), собрать все силы. Отрешиться от внешних проектов, по возможности не распылять силы, сосредоточить их на внутренних делах.
Нас мало должно интересовать, что говорят и пишут о нас в мире (особенно в странах Балтии и Восточной Европы, да и Западной тоже), кто кому первый позвонил и что там еще учудила «элита» Украины. На это тратится непропорционально много сил, времени и эмоций. Это просто отвлекает. Мы слишком много оглядываемся на западную «княгиню Марью Алексевну», у которой самой провал за провалом. Все это надо держать в поле зрения – периферийного, но интересовать нас должно прежде всего то, что происходит и получается внутри страны.
И нефть с газом здесь не при чем. Тем более что мир активно занимается поиском альтернативных источников энергии. Да и продажа нефти и газа по диктуемым извне низким ценам означает игру по правилам, создаваемым не Россией, и фактически – расхищение ресурсов страны. Поэтому зависимость от энергетического сырья должна быть жестко и недвусмысленно снижена раз и навсегда (его доля в ВВП страны должна быть максимум 5–8%). Это возможно, что и показывает опыт ряда стран. Методология и технология – это другое дело. Надо просто принять жесткое политическое решение для самих себя и приступить к делу.
Иное говорит об интеллектуальном и управленческом бессилии политикоуправленческого класса. В таком случае ему следует уйти и заняться другим, более простым делом. Поскольку институт отставки в России практически не работает, гражданское общество, наука, бизнес заинтересованы в том, чтобы настоятельно довести до сведения этого класса, что со своими обязанностями он не справляется и что уже давно созрел социальный запрос на его уход и замену. Россия стратегически постоянно проигрывает от ситуации, сущностно родственной приятной перестановке кресел оркестра на «Титанике».
Список литературы Есть ли жизнь без нефти и газа? (Управленческие аспекты смены экономической модели)
- Агеев А., Логинов Е., Райков А. 2015. Стратегическое конструирование мировых товарных рынков в системе финансовых координат: российские уроки обрушения цен на нефть. -Экономические стратегии. № 2. С. 18-27
- Дмитриевский А.Н. 2011. Ресурсно-инновационная экономика: история, проблемы, перспективы. -Энергетическая политика. № 2. С. 35-38
- Иноземцев В. 2015. В России нет экономической политики. -Мир перемен. Специальный выпуск. С. 52-56
- Матурана У., Варела Ф. 2001. Древо познания (пер. с англ. Ю.А. Данилова. М.: Прогресс-Традиция. 224 с
- Росс М. 2015. Нефтяное проклятие: как богатые запасы углеводородов задают направление развития государств. М.: Дело. 464 с
- Славкина М.В. 2013. Влияние нефтегазового комплекса на модернизационные процессы в СССР -России (1939 -2008 гг.): дис. … д.и.н. М
- Славкина М. 2014. Российская добыча. М.: Весь Мир. 360 с
- Сорокин П. 2000. Социальная и культурная динамика. СПб.: Изд-во РХГИ. 1056 с
- Шлезингер-младший А.М. 1992. Циклы американской истории (пер. с англ.). М.: ИГ «Прогресс», «Прогресс-Академия. 688 с