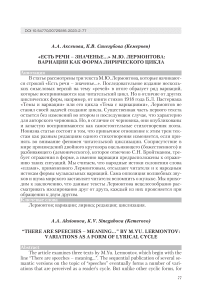"Есть речи - значенье..." М.Ю. Лермонтова: вариации как форма лирического цикла
Автор: Аксенова А.А., Синегубова К.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (65), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены три текста М.Ю. Лермонтова, которые начинаются строкой «Есть речи - значенье.». Последовательное издание нескольких смысловых версий на тему «речей» в итоге образует ряд вариаций, которые воспринимаются как читательский цикл. Но в отличие от других циклических форм, например, от книги стихов 1918 года Б.Л. Пастернака «Темы и вариации» или его цикла «Тема с вариациями», Лермонтов не ставил своей задачей создание цикла. Существенная часть первого текста остается без изменений во втором и последующем случае, что характерно для авторского черновика. Но, в отличие от черновика, они опубликованы и зачастую воспринимаются как самостоятельные стихотворения поэта. Новизна статьи состоит в том, что привычное отношение к этим трем текстам как разным редакциям одного стихотворения изменяется, если принять во внимание феномен читательской циклизации. Соприсутствие в мире произведений двойного кругозора оцельняющего (божественного) и разбивающего (демонического), которое отмечено С.Н. Бройтманом, требует отражения в форме, а именно вариации предрасположены к отражению таких ситуаций. Мы считаем, что народные истоки склонения слова «пламя», примененного Лермонтовым, отсылают читателя и к народным истокам формы музыкальных вариаций. Сама оппозиция волшебных звуков и шума мирского заставляет читателя вспомнить о музыке. Мы приходим к заключению, что данные тексты Лермонтова нецелесообразно рассматривать изолированно друг от друга, каждый из них проясняется при обращении к двум другим.
Лермонтов, вариации, лирика, редакция, циклизация
Короткий адрес: https://sciup.org/149143526
IDR: 149143526 | DOI: 10.54770/20729316-2023-2-77
Текст научной статьи "Есть речи - значенье..." М.Ю. Лермонтова: вариации как форма лирического цикла
По словам В.Е. Хализева, «без повторов и их подобий («полуповторы», вариации, дополняющие и уточняющие напоминания об уже сказанном) словесное искусство непредставимо. Эта группа композиционных приемов служит выделению и акцентированию наиболее важных, особенно значимых моментов и звеньев предметно-речевой ткани произведения. Всякого рода возвраты к уже обозначенному выполняют в составе художественного целого роль, подобную той, что принадлежит курсиву и разрядке в напечатанном тексте» [Хализев 2004, 277]. Следует подчеркнуть два момента: во-первых, принадлежность повторов составу художественного целого, повторы и градации находятся внутри одного произведения; во-вторых, вариации ученый рассматривает как подобие повтора, то есть как то, что обнаруживается внутри одного текста. Терминологически следует различать между собой повторы и градации , которые находятся внутри одного произведения, и вариации , которые интертекстуальны.
Устоявшийся в литературоведческом аппарате термин «градация» тесно связан с литературным повтором , но не является его синонимом и объемы этих понятий не совпадают. Наличие повтора в литературной градации не обязательно. Возникает вопрос о различиях между повтором и вариациями . Повторы и градацию мы, как и В.Е. Хализев, относим к композиционным элементам. Но понятие «вариации» будем использовать для обозначения группы произведений, которые объединяет общая тема и принадлежность одному автору, а различает – наличие небольших изменений в воспроизведении темы. В отличие от авторского цикла, вариации могут слово в слово повторять большую часть текста и возникать в иных пределах – пределах читательского цикла .
Вариации традиционно воспринимаются как форма музыкальных произведений, но существуют и произведения словесного творчества, в которых реализуется данный тип формы. Происхождение этой формы в музыке уходит корнями в народное творчество. Итак, если перед нами несколько опубликованных версий одного текста, то следует определить, идет ли речь о разных его редакциях или о вариациях.
Практика сопоставительного анализа редакций текста существует уже довольно давно. Существующие исследования в этой области можно разделить на два типа по объекту исследования: в первом случае изучаются рукописи и публикации или только рукописи, во втором – два и более варианта опубликованного текста.
К первой группе относится, например, статья В.А. Лукиной [Лукина 2022], где поднимается вопрос о том, какой текст А.А. Фета «Аполлон Бельведерский» следует считать основным, поскольку при жизни стихотворение не публиковалось. Каноническую и первоначальную (рукописную) редакции стихотворения Н.А. Некрасова «Над чем мы смеемся...» сопоставляет М.Ю. Данилевская [Данилевская 2020], обосновывая причины изменений фактами биографии Некрасова. Три редакции стихотворения Б.Л. Пастернака «Ожившая фреска» (1944) сравнивает В.В. Лепахин [Ле-пахин 2021]. Первая редакция называлась «Воскресение», вторая «Сталинград», но опубликована была только третья. В.В. Лепахин не делает акцент на том, что это абсолютно разные тексты, а фиксирует то, что остается в них неизменным и доказывает значимость в этих редакциях мотива воскрешения.
В работах второй группы ставится вопрос о циклизации и изменении или, напротив, устойчивости той или иной авторской интенции. В статье О.Ю. Казмирчук [Казмирчук 2012] сопоставляются журнальные редакции стихотворений Б.Л. Пастернака «Лето» и «Город» с теми редакциями, которые в итоге вошли в цикл «Переделкино». Автор этой статьи отмечает новые образы, появляющиеся для того, чтобы усилить связь между стихотворениями и циклом. Б.А. Минц сопоставляет две редакции стихотворения О.Э. Мандельштама о Исаакиевском соборе, учитывая стремление автора «сознательно сопрягать в лирическое единство» [Минц 2013b, 132] разные версии текста. Автор этой статьи приходит к заключению: «сравнение двух редакций стихотворения об Исаакиевском соборе, которые, по нашему предположению, в определенный момент сосуществовали в поэтическом хозяйстве Мандельштама, говорит о внутренней динамике его христианских исканий и соответствующих мотивных комплексов» [Минц 2013a, 117]. В статье В.И. Тюпы «Двойчатка Мандельштама» рассмотрены два стихотворения как начальная ступень циклизации: «минимальный лирический цикл – не единственная в его поэтическом наследии “двойчатка” (по слову самого поэта). Два объединенных текста соотносятся как черновик и чистовик. Второй представляет собой новый этап творческого процесса, не превосходящий и, тем более, не отменяющий предыдущего, но диалогически уточняющий и углубляющий его. Сам поэт называл такого рода непрямой путь к поэтической цели «законом парусного лавирования», которым, на его взгляд, искусно владел Данте» (курсив наш – А.А.) [Тюпа 2022, 28]. Когда к прочтению лермонтовского текста обращается С.Н. Бро- йтман, то он отмечает, что выявлять значимые смысловые перспективы приходится, не останавливаясь на одном тексте: «неодносоставность этого субъекта становится особенно заметной при сопоставлении разных редакций стихотворения» (курсив наш – А.А.) [Бройтман 1979, 46].
В отношении многих самых известных поэтов и наиболее широко известных текстов часто складывается обманчивое впечатление изученности, понятности. В 70-е гг. появилась статья И.Л. Андронникова, который смотрит на текст лермонтовского стихотворения «Есть речи – значенье…» как на один, но в разных редакциях. Он берет за отправную точку стихотворение 1832 года «К***» и считает, что автограф стихотворения «Волшебные звуки» остается неизвестным. Эту версию он выстраивает, опираясь на примечание в издании Соллогуба, что «здесь некоторые строфы прибавлены, а некоторые совершенно изменены» [Андронников 1977, 499]. Сопоставляя три текста, приходит к выводу, что третье стихотворение представляет собой совмещение двух первых редакций, в котором «Лермонтов пытается обойти строчку “из пламя и света”» [Андронников 1977, 500]. Так Андронников приходит к однозначному выводу: «редакция “Волшебные звуки” хотя по времени и представляет собою последний этап работы, не отвечает художественным намерениям Лермонтова и оставлена им в недоработанном виде» [Андронников 1977, 502]. Под первой, второй и третьей редакцией мы понимаем те же тексты, что и Андронников. Но при этом считаем, что они образуют особый вид читательской циклизации – вариации. Они объединены одной темой, но в каждом случае эта тема раскрыта иначе и ни о какой «недоработанности» тут речь не идет. Поэтому при выборе только одной из версий стихотворения происходит искажение смысла. И увидеть это должен именно внимательный читатель. Само существование этих нескольких смысловых версий в результате свидетельствует о том, что произведение и его смысл тяготеет к форме вариаций (музыкальная форма, в основе которой тема и ее видоизмененные повторения).
Также в 70-е гг. выходит статья Л.Г. Фризмана, которая посвящена теме лермонтовских «речей». Отметим, что неоднозначно выглядит его убеждение в том, что слово здесь провозглашается беспомощным для выражения невыразимого [Фризман 1971], ведь это в том числе и такое слово, которое обладает огромной силой (ради него стоит прервать молитву, покинуть битву). Образы молитвы и битвы возникают как проявления наиболее напряженного состояния, становятся атрибутами внешнего мира и только потому становятся неважны, как жест предпочтения внешнего внутреннему (их можно прервать ради звуков родных ). Здесь необходимо учесть, что объяснение такой притягательности родных звуков возможно посредством других образов произведения, намечающих оппозицию родного и чужого, пламени и холода.
Споры, что велись вокруг грамматической формы «из пламя и света», давно уже себя исчерпали. Приведем высказывание Э. Найдича: «во многих русских говорах, в разговорной речи и, главное, в художественной практике ряда русских писателей XVIII – начала XIX в., как об этом писал известный исследователь русского литературного языка Л.И. Бу- лаховский, слова “имя”, “время” и подобные им склоняются по образцу “поле”. Живые народные формы этих слов относительно свободно употребляли Кантемир, Радищев, Державин, Крылов, Лермонтов и даже позднее Л.Н. Толстой в “Войне и мире”. Подобная грамматическая форма встречается в произведениях Лермонтова: “Погаснувших от время и страстей” (стихотворение “1831-го, июня 11 дня”), “Не выглянет до время седина” (поэма “Сашка”), “Ни даже имя своего” (стихотворение “А.О. Смирновой”, вариант из альбома М.П. Полуденского). Это необходимо знать: лермонтовские строки о могуществе слова не противоречат по своей грамматической форме традиции русского литературного языка» [Найдич 1994, 157–158]. Поэтому мы здесь лишь подчеркнем, что народная форма слова «пламя» оправдана как с точки зрения русского языка, так и с точки зрения поэтики текста, кроме того, она соответствует истокам музыкальных вариаций (тоже народным). Оппозиция двух точек зрения на сами «речи» – это оппозиция личного («один понимает») и публичного («многие слышат»), которая характерна также и для художественного смысла музыкальных вариаций, где форма актуализирует соотношение «своего» и «чужого». Такая форма воспроизводит традицию подголосочного распевания единой мелодической линии.
Все три версии, естественно, не совпадают между собой: первая и вторая версия текста лишены названия, а первая и третья – строк «из пламя и света», вторая и третья отличаются от первой указанием на образы «шума мирского». И, наконец, только в последней версии говорится, что слово будет узнано именно сердцем , тогда как во второй редакции говорится только о том, что оно будет узнано (а сам образ сердца отсутствует). Итак, перед нами три текста, в которых каждая новая вариация одной темы раскрывает и проясняет смысл по-своему, дополняя друг друга.
В первой строфе (всех трех текстов) дается общая тема: вербальная сфера распадается на две части – звуковую и понятийную («речи» и «значенье»). Этот распад возможен лишь при утрате внутренней формы слова , когда связь между звучанием и значением становится условной, не вызывая зримого представления. Необходимо обратить внимание на то, что здесь возникает противопоставление значения и смысла. Само представление о внутренней форме слова поэтически обыгрывается: распад на звуковую и понятийную сферу маркирует утрату смысла и ценности.
Возникающее с точки зрения лирического героя волнение, вызвано именно смыслом, а не значением. Но смысл оказывается невыразим привычными средствами «мирского» языка. С точки зрения С.Н. Бройтмана эти речи есть «выразительное и говорящее бытие, “райское” состояние, “любовь”, начало, творящее мир <…> хотя демон прямо не назван, в тексте воспроизведено и разыграно то восприятие “речей”, какое возможно только для отпавшего от полноты бытия. Только в кругозоре подобного субъекта единое и нерасчленимое само по себе “слово” может предстать расчлененным на значение и звук <…> расчленяющее “демоническое” сознание с самого начала дано в зоне контакта с невыразимым» [Бройтман 1979, 42–47]. Соприсутствие двойного кругозора оцельняющего (боже- ственного) и разбивающего (демонического) требует отражения в форме, ведь вариации предрасположены к отражению диалогических ситуаций. Поэтому вариационное начало реализуется в виде трех редакций текста.
Разбиение в текстах Лермонтова на значение и звук (на которое указывает Бройтман) подтверждает противостояние оцельняющей и разбивающей тенденции. Узнавание звуков сердцем противостоит рассудочному опознаванию знаков. Поэтический смысл подчиняется законам красоты и гармонии, он близок к музыке (и к Музе , которая вдохновляет).
В диссертации Е.И. Максимова высказана мысль о диалоге двух связанных и сталкивающихся начал в вариационном цикле: «Иногда тема при варьировании бережно видоизменяется и любовно украшается, иногда же словно бы оспаривается и подвергается трансформациям, меняющим ее сущность. В связи с этим возникает проблема соотношения “своего” и “чужого”. В вариационном цикле может происходить диалог двух разных эпох и творческих личностей, взаимодействие прошлого и настоящего» [Максимов 2014, 8]. Вариации позволяют слушателю (а в нашем случае – читателю) следить за переосмыслением образа.
Если обратиться к той версии, в которой присутствует заглавие «Волшебные звуки», то оно сразу же намечает оппозицию чудесного и обыденного, удивительного и привычного, искусства и жизни. Красота этих волшебных звуков явно имеет сакральную природу и пленяет героя, побуждая его не только покинуть битву (сфера агрессии, смерти и разрушения), но и храм. Молитва в храме – это традиционный способ коммуникации верующих с Богом, однако волшебные звуки возникают не как ответ на молитву, а как явление принципиально иной природы, заставляющее молитву прервать. Лирический герой выводит описываемое явление за пределы всего, что доступно обычным людям, в том числе и за пределы сакрального пространства храма. Указанные в произведении волшебные звуки принципиально иной природы – их смысл доходит до самого сердца в обход лингвистического значения.
Неслучаен и образ мирского шума. Шум – это тоже звуки, но уже не музыка и гармония, а хаотичные для слуха, раздражающие, означающие разлад. Для мира, наоборот, волшебные звуки лишены всякой пользы (ни- чтожны) и смысла (темны). Образы света и тьмы, космоса и хаоса, волшебного звука и мирского шума здесь образуют оппозицию и связываются очень тесно. Мирские звуки – шум, тьма, отсутствие гармонии, смерть. Этот шум тесно связан с условиями мирского существования, днями муки. Так, опосредованно намечается тема болезни: мирской шум, от которого заболевают. Родные звуки, наоборот, названы здесь целебными, их сразу узнает сердце (живое биение этого сердца связано с присутствием смысла в жизни, а механическое биение – с утратой такого смысла и смертью).
Возникающие во второй строфе всех трех версий произведения образы человеческого состояния тоски, слез, трепета, связаны со способностью чувствовать, а не только мыслить. Соответствующие этим состояниям чувства – желания, разлука, свидание – про любовь, не про логику. Согласимся с наблюдением Э. Найдича: «…если в раннем стихотворении “Ангел” “звуки небес” противопоставлены “скучным песням земли”, то через десять лет “высокие и святые звуки” – уже не отражение запредельного, а проявление страстного, личного, человеческого (курсив наш. – А.А.)» [Найдич 1994, 160]. Эти вариации Лермонтова не являются романтическим воспеванием невыразимого, слово находится здесь в центре внимания и его роль гораздо сложнее: оно способно сближать людей («Их кратким приветом, / Едва он домчится») и вывести душу из мрака на свет («как божиим светом / душа озарится»). Об этом говорит читателю и рифма: светом – приветом. Сравнение «как» означает, что имеется в виду не божественный, запредельный свет, а земной, человеческий привет («привет» от привечать – ласково встретить, дать приют).
Важна и интимная обращенность этих слов: «Их многие слышат, / Один понимает». Как отмечает С.Н. Бройтман, «сопоставление редакций стихотворения показывает, как целенаправленно шел поэт к сотворению активно-творческой и диалогической позиции “я”» [Бройтман 1979, 49]. Дело не в том, что речь идет о романтической оппозиции героя и толпы, а в том, что это подчеркивает здесь личную, а не публичную адресованность .
Итак, следует отметить, что появление образа сердца в первом и последнем текстах ведет к изменению картины мира, возникает еще одна оппозиция: слышания и понимания, которая соответствует разнице внешнего (публичного) и внутреннего (личного). Слышание осуществляют внешние органы слуха, но понимание происходит внутри, в самом сердце.
Во втором тексте появление образа узнавания наделяет «речи» символическим характером: «по символу опознают и понимают друг друга “свои” . В отличие от аллегории, которую может дешифровать и “чужой”, в сознании есть теплота сплачивающей тайны (курсив наш – А.А.)» [Аверинцев 1971, 826]. Этот образ тайны понимается как перифраз темноты: для суетного, шумного мира значенье сокровенных речей «темно», неясно.
Также во втором и последнем тексте отчетливо актуализируется оппозиция гармонии и хаоса, «речей» и «шума мирского», музыкальность этих речей, заданная в первом тексте. Собственно, название последнего текста «Волшебные звуки» явно происходит из четвертой строфы первого текста: «Волшебного слова / Целебные звуки».
Кроме того, в первом тексте невписанность слов в пределы светской грамматики (народное слово «пламя») еще раз подчеркивает, что логика здесь принципиально иная . И это проясняет именно обращение к третьей версии текста, в которой заглавие сразу подчеркивает принадлежность звуков к другой сфере (они «волшебные»).
Образы родного сердца, озаренной души, привета, подсказывают, что перед нами особое слово , непривычное миру и адресованное не миру, а одному родному человеку, который их понимает. Поэтому заглавие третьего текста как раз объясняет оппозицию дней муки и целебных звуков из первого текста. На этом основании мы убеждаемся, что выделять только одну версию текста фактически нецелесообразно: у Лермонтова образуется читательский цикл.
Список литературы "Есть речи - значенье..." М.Ю. Лермонтова: вариации как форма лирического цикла
- Аверинцев С.С. Символ // Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. 1971. С. 826–831.
- Андронников И.Л. Лермонтов. Исследования и находки. М.: Художественная литература, 1977. 650 с.
- Бройтман С.Н. К проблеме диалогичности лирического текста (Стихотворение М. Лермонтова «Есть речи – значенье») // Литературное произведение как целое и проблемы его анализа. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 1979. С. 40–52.
- Бройтман С.Н. «На звук твой отвечу». Субъектно-образная ситуация в лирике Лермонтова // М.Ю. Лермонтов: pro et contra: личность и идейно-художественное наследие М.Ю. Лермонтова в оценках отечественных и зарубежных исследователей и мыслителей: антология. СПб.: РХГА, 2014. С. 235–249.
- Данилевская М.Ю. Стихотворение Некрасова «Над чем мы смеемся...»: первоначальная и каноническая редакции // Новые исторические перспективы: от Балтики до Тихого океана. 2020. № 4(21). С. 61–68.
- Казмирчук О.Ю. Две редакции стихотворений Б.Л. Пастернака «Лето» и «Город» // Новый филологический вестник. 2012. № 1(20). С. 96–102.
- Лепахин В.В. Воскресение, Сталинград, ожившая фреска: три редакции одного стихотворения Бориса Пастернака // Словесное искусство Серебряного века и Русского зарубежья в контексте эпохи («IV Смирновские чтения»): материалы IV Международной научной конференции. Москва: МГОУ, 2021. С. 131–135.
- Лукина В.А. К вопросу об основном тексте стихотворения А.А. Фета «Аполлон Бельведерский» // Два века русской классики. 2022. Т. 4. № 2. С. 232–245.
- Максимов Е.И. История фортепианных вариаций классико-романтической эпохи: дис. … д. искусствоведения:17.00.02. Москва, 2014. 546 с.
- (a) Минц Б.А. Две редакции стихотворения О. Мандельштама об Исаакиевском соборе: к проблеме поливариантности // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. № 9-1(27). С. 113–117.
- (b) Минц Б.А. Две редакции стихотворения О. Мандельштама об Исаакиевском соборе: проблемы текстологии // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. № 6-1(24). С. 132–136.
- Найдич Э. Этюды о Лермонтове. СПб.: Художественная литература, 1994. 253 с.
- Тюпа В.И. Двойчатка Мандельштама // Новый филологический вестник. 2022. № 3(62). С. 28–34.
- Фризман Л.Г. Стихотворение Лермонтова «Есть речи – значенье» // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1971. № 4. С. 28–31.
- Хализев В.Е. Теория литературы. М.: Высшая школа, 2004. 405 с.