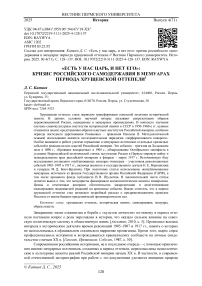«Есть у нас царь, и нет его»: кризис российского самодержавия в мемуарах периода хрущевской оттепели
Автор: Катаев Д.С.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Технологии и образы власти
Статья в выпуске: 4 (71), 2025 года.
Бесплатный доступ
Хрущевская оттепель стала периодом трансформации советской политики исторической памяти. В данных условиях научный интерес вызывают репрезентации образов дореволюционной России, освещенные в мемуарных произведениях. В контексте изучения системы социокультурных институтов исторической памяти в СССР в 1950‒1960-е гг. ценным становится анализ представления образов властных институтов Российской империи, особенно периода последнего царствования Романовых – правления Николая II. Методологической основой исследования является исследовательская парадигма «перформативного поворота». Особое внимание в работе уделено отражению в мемуарных источниках отдельных кризисных событий и реакции на них властей Российской империи. Эти события – трагедия на Ходынском поле в 1896 г., «Кровавое воскресенье» в 1905 г., обнародование Октябрьского манифеста в условиях Всероссийской политической стачки, вступление России в Первую мировую войну и непосредственно крах российской монархии в феврале ‒ марте 1917 г. Источниковую базу исследования составляют опубликованные мемуары очевидцев ‒ участников революционных событий 1905‒1907 и 1917 гг., включая военного и государственного деятеля К. Е. Ворошилова и генерала М. Д. Бонч-Бруевича. При подготовке статьи использованы неопубликованные мемуарные источники из фондов Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), в том числе архивного фонда публициста В. В. Шульгина. В заключительной части статьи делается вывод о том, что мемуаристы фиксировали космополитические аспекты монархизма. Ценны и отмеченные авторами обстоятельства дискредитации и делегитимизации самодержавия неадекватной реакцией на кризисные события. Важно отметить, что в период хрущевской оттепели стал возможен подробный рассказ о предреволюционном прошлом России и от имени бывших представителей промонархических сил.
Хрущевская оттепель, историческая память, самодержавие, мемуары, образы власти
Короткий адрес: https://sciup.org/147252779
IDR: 147252779 | УДК: 94(47).(084)"195/196":94(47)"19-XX" | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-4-128-137
Текст научной статьи «Есть у нас царь, и нет его»: кризис российского самодержавия в мемуарах периода хрущевской оттепели
Завершение эпохи сталинизма и борьба с «культом личности» по-новому в период оттепели поставили вопрос о роли персоналии в истории, что оказало сильное влияние на советскую политическую систему и общественную жизнь [ Аксютин , 2010, с. 5]. Произошел всплеск интереса к историческим деятелям времен революций 1905‒1907 и 1917 гг., память о которых не использовалась в официальном сталинском нарративе пропаганды. Кроме того, вырос спрос профессиональных историков и возрождавшихся краеведческих сообществ на личные свидетельства о начале XX в. [ Ганелин, Ирошников, Соболев , 1987, с. 30].
Современными российскими историками, не в последнюю очередь – с помощью привлечения именно мемуарных источников, созданных в период оттепели, переосмыслены психологические и культурные аспекты реалий Российской империи начала XX в. В частности, в современной отечественной историографии при работе с эго-документами уделяется внимание природе
патриотических настроений и верноподданнической пропаганды в кризисные периоды Русско-японской и Первой мировой войн [ Поршнева , 2010]. В контексте оценки системы социокультурных институтов исторической памяти и исторической политики в СССР с 1953 г. по конец 1960-х гг. ‒ периода хрущевской оттепели в широком смысле ‒ важным становится анализ репрезентаций образов властных институтов Российской империи конца XIX – начала XX в.
Если говорить о методологических разработках вокруг источников, способных помочь осмыслению образов российского самодержавия, то невозможно не упомянуть концепцию «сценариев власти» Р. Уортмана. Она сформулирована в логике перформативного поворота именно на примере реалий политической культуры России XVIII – начала XX в., особое внимание уделено трем последним царствованиям династии Романовых [ Уортман , 2004]. В целом «сценаристская концепция» оказалась продуктивна для изучения искажений политического мифа [«Как сделана история»…, 2002; Колоницкий , 2010]. В ретроспективных мемуарных произведениях периода оттепели эти искажения нарратива были способны дойти до крайних степеней из-за индивидуальных возрастных особенностей авторов, сложившихся традиций советской историографии в освещении событий начала XX в., и, что наиболее важно, фильтров цензуры, самоцензуры и редактуры. Учет цензурных ограничений актуален даже в отношении неопубликованных мемуарных источников.
При рассмотрении проблемы с позиции перформативного поворота крайне важно понятие обряда, а конкретно - ритуала и церемонии [ Бахманн-Медик , 2017, с. 130]. Именно их отражение в мемуарных источниках способно пролить свет на отношение к властным институтам.
С институтами российской монархии авторы, оставившие воспоминания в период оттепели, преимущественно взаимодействовали в конкретных кризисных событиях. Это – трагедия на Ходынском поле во время коронационных торжеств 1896 г., «Кровавое воскресенье» в 1905 г., обнародование Октябрьского манифеста в условиях Всероссийской политической стачки, вступление России в Первую мировую войну и непосредственно крах российской монархии в феврале ‒ марте 1917 г. Именно этим обусловлено внимание в статье к отражению действий самодержавной власти в данных событиях.
Для анализа используется изложение от авторов, претендовавших на рассказ от первого лица про события общеимперского значения, уже достаточно хорошо к тому моменту изученные в советской историографии [Основные итоги..., 1975, с. 42‒60]. Большинство авторов, чьи отклики на события XX в. представлены в статье, до 1917 г. были большевистскими активистами, действовавшими преимущественно в Санкт-Петербурге и Москве. «Провинциальная оптика» на данные события достойна отдельного рассмотрения. Но знаковые авторы, публикация воспоминаний которых была феноменом периода оттепели, – это военный деятель М. Д. Бонч-Бруевич и в особенности В. В. Шульгин ‒ публицист, один из ключевых организаторов Белого движения.
Всего каким-либо образом тема социально-политической жизни Российской империи в прижизненных мемуарных публикациях, вышедших в РСФСР в 1953‒1970 гг., затронута не менее чем в 140 книжных изданиях. Эти вопросы также освещены в 49 публикациях в литературных журналах. Невозможно обойти вниманием и преимущественно неопубликованные документальные материалы, поступившие в Центральный государственный архив Октябрьской революции в 1950‒1960-е гг. в ходе работы архива по комплектованию документальными коллекциями и записями воспоминаний участников революционных событий в России начала XX в. Ныне эти материалы составляют 45 архивных фондов Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). Развернутые эго-документы периода оттепели о реалиях Российской империи отложились в 26 личных фондах ГАРФ.
Относительно редко встречаемый сюжет в советских мемуарах периода оттепели, несмотря на сильный резонанс и пристальное внимание в историографии, связан с трагедией на Ходынском поле. Подробно отклики на последствия Ходынки освещены в воспоминаниях писателя и партийного деятеля И. А. Козлова, согласно которому во впечатлениях представителей податных сословий с событиями на Ходынском поле был связан срыв оглашения некого «манифеста», который должен был освободить крестьян от земельных податей (Козлов, 1965, с. 18‒19). Вина за Ходынку в произведении И. А. Козлова все еще приписывалась не лично им- ператору и не его дяде, московскому генерал-губернатору Сергею Александровичу, а «министрам», что могло снимать ответственность за трагедию с Российского императорского дома. Но Ходынка уже четко указана как кризисное событие для самодержавия, подрывающее легитимность Николая II, предвестник несчастий нового царствования. Осмысление этого события как одного из первых этапов делегитимации дома Романовых встречается и в мемуарах генерала М. Д. Бонч-Бруевича, например, многократно цитировавшего фразу генерала Н. В. Рузского: «Ходынкой началось, Ходынкой и кончится!» (Бонч-Бруевич, 1957, с. 63).
Однако для большинства авторов, затронувших в публикациях периода оттепели тему образов дореволюционной российской власти, роль переломного события, высветившего кризис самодержавия, приписывается Кровавому воскресенью - расстрелу демонстрации в Санкт-Петербурге 9 января 1905 г. Так, писатель В. Б. Шкловский метафорично охарактеризовал роль этого события: «Но хотя часы царской империи еще и продолжались, царизм уже умер» ( Шкловский , 1966, с. 56). В свою очередь, работавший в молодости в Санкт-Петербурге вологодский партийный деятель Г. М. Шаршавин подчеркивал, что до Кровавого воскресенья «у большей части рабочего народа вера в царя-батюшку была еще очень крепкой» ( Шаршавин, 1962, с. 14‒19). 9 января, как отмечал этот автор, произвело переворот в оценках русского самодержавия среди представителей рабочего класса, которые до этого события в большинстве своем чтили «царя-батюшку», а также верили, «что в бедствиях народа повинен не он, “помазанник божий”» (Там же). Эта вера, по словам мемуариста, «рассеялась вместе с дымками выстрелов на Дворцовой площади и на улицах Питера» (Там же). Г. М. Шаршавин в том числе утверждал, что «Кровавое воскресенье» повлияло и на его личное отношение к самодержавию: «Все то, что впитывалось в мое сознание с материнским молоком, с пеленок, в этот день будто ветром сдуло...» (Там же).
Деятель профессиональных союзов работников пищевой промышленности Б. И. Иванов, в свою очередь, подчеркивал, что «у Нарвских ворот была расстреляна вера в царя (ГАРФ. Ф. р-5449. Оп. 1. Д. 184. Л. 6). Эти изменения легитимности монархической власти Г. М. Шарша-вин лаконично отметил приписываемой старым рабочим фразой: «Есть у нас царь, и нет его» ( Шаршавин , 1962, с. 18). Б. И. Иванов характеризовал то доверие, «крупицы недавней веры», которое ранее демонстрировалось со стороны представителей крестьянского и мещанского сословий императору и «честным уму царедворцам», как нелепое, а события «Кровавого воскресенья» сделали институты монархии для них ненавистными (ГАРФ. Ф. р-5449. Оп. 1. Д. 184. Л. 10). Реакцию гвардейцев Преображенского полка на события «Кровавого воскресенья» как переломного отмечал и бывший военнослужащий полка, экономист К. Б. Басин ( Басин , 1965, с. 29-31).
В воспоминаниях участника революционных событий 1917 г. А. И. Тимофеева встречается такое описание реакции школьного законоучителя на вопрос ученика, обвинившего императора в нарушении заповеди «не убий»: «Крамольные мысли у тебя в голове, не царь убивал народ, а солдаты» (ГАРФ. Ф. р-7012. Оп. 1. Д. 16. Л. 6-7). Таким образом, церкви приписывалась роль одной из пропагандистских опор самодержавия в лице священника-законоучителя, указывавшего на ответственность армии за преступления власти во время подавления выступлений революционного времени. Мемуарист, в свою очередь, указывал на нарушение монархическими институтами религиозных установок. Нарушения религиозного ритуального и церемониального порядка отмечал и Б. И. Иванов. Он писал: «Мы были поражены тем, что солдаты стреляли в толпу, стреляли в иконы и портрет царя» (ГАРФ. Ф. р-5449. Оп. 1. Д. 184. Л. 16).
Подробно тема «Кровавого воскресенья» освещена в мемуарах участника революционных событий 1905 и 1917 гг. Е. П. Онуфриева. Себе автор приписывал следующие критические размышления о невозможности сотрудничества с императорской властью, оправдывавшие революционное насилие: «Если бы у всех тех, которые идут ко дворцу, было в руках оружие! Тогда с царем мог бы состояться иной разговор» ( Онуфриев , 1968, с. 44). Он цитировал схожее по тону высказывание одного из рабочих: «Кланяться царю незачем» (Там же, с. 42). Автор мемуаров привел и верноподданнические высказывания участников демонстрации, на контрасте показывающие крах иллюзий в отношении монархии: «Скажите, господин офицер, когда к царю допустят нас? Когда услышим мы его ласковое слово?» (Там же, с. 49). В воспоминаниях
Б. И. Иванова также транслировались схожие, относительно верноподданнические установки рабочих, крестьян и мещан перед событиями «Кровавого воскресенья» (ГАРФ. Ф. р-5449. Оп. 1. Д. 184. Л. 1).
Ряд мемуаристов (и/или их литературных редакторов) привели крайне стандартизированные формулировки реакций на «Кровавое воскресенье». В первую очередь в русле сложившейся советской историографической традиции и пропагандистских установок они отметили роль этого события как катализатора революционных процессов, прямого триггера забастовок и восстаний по всей стране, в том числе с антимонархическими лозунгами ( Ворошилов , 1968, с. 23‒24, 40). Схожие оценки характерны и для описания дальнейших реакций на Ленский расстрел в 1912 г. (Слово старых большевиков…, 1965, с. 94).
Особое место занимают воспоминания К. Б. Басина, повествующие о мятеже в 1-м батальоне лейб-гвардии Преображенского полка в июне 1906 г. и его предпосылкам. В его воспоминаниях ярко проявились различия в отношении к самодержавию среди разных групп военнослужащих, особенно их некомплиментарные оценки. Автор подчеркивал самоустранение императора от персональной ответственности за события «Кровавого воскресенья» и одновременно – непропорциональность насилия, осуществленного от имени императорской власти в отношении демонстрации рабочих ( Басин , 1965, с. 29‒31).
Делегитимации императорской власти способствовало награждение военнослужащих за участие в подавлении революционных демонстраций, в том числе ненасильственных. В приведенных от имени сослуживцев высказываниях встречался и элемент религиозной критики императорской власти: «Наш ротный командир капитан Н. Н. Мансуров за проявленную на Дворцовой площади “доблесть” высочайшим приказом от 16 января 1905 года был награжден орденом Святой Анны третьей степени. Острый на язык рядовой Василий Кубаенко по этому поводу сказал: “Нынче ордена царь дает за стрельбу по заводским, по старикам, старухам да по малым детям. Куда господь Бог смотрит? Спятил его помазанник...”» (Там же, с. 34‒35). При описании других событий революции 1905‒1907 гг. К. Б. Басин уделил внимание усилиям императорской власти по обеспечению лояльности «преображенцев», которые все равно были охарактеризованы как «подачка царя» – увеличение вдвое денежного содержания, назначение «чайно-сахарного» довольствия (Там же, с. 13‒18).
При описании итогов мятежа К. Б. Басин отметил факт волнений как дискредитирующих монархические порядки: «Армия маленького венценосного полковника стала меньше на батальон; настолько же выросла победоносная армия Великой Революции» (Там же, с. 80‒81). Сам факт опалы батальона, ликвидация в его названии монархической символики мемуаристом названы «почетным наказанием». В особенности так характеризуется отсутствие «по высочайшему приказу» шефства подразделения со стороны членов Российского императорского дома и монарших особ зарубежных государств: «У него нет знамени, ему не дано в шефы ни государя, ни государыни вдовы, ни государыни жены, ни короля датского, ни королевы греческой... Он не носит имени никакого царя, императора, герцога, эрцгерцога» (Там же). Такое перечисление, не делающее различия между российским самодержавием и зарубежными монархиями, ярко показывает демонстрацию советским мемуаристом отчужденного отношения к любым монархическим институтам.
Действия монархических институтов в кризисных условиях высветил и П. М. Никифоров при описании волнений на императорской яхте «Полярная звезда». Но больший интерес представляет его взгляд на встречу в Биорки между Николаем II и немецким кайзером Вильгельмом II. Ярко отношение автора и к российской, и к германской монаршим особам показывает одна из цитат, приписанных мемуаристом часовым экипажа императорской яхты: «Вот бы рвануть, – сразу бы две империи пошли на дно» ( Никифоров , 1958, с. 42‒43).
Вопрос толкования любого недовольства в период Русско-японской войны и Первой Русской революции как антимонархической активности актуален и при описании еще одного хорошо изученного эпизода – восстания на броненосце Черноморского флота «Князь Потемкин-Таврический». Участник восстания Н. П. Рыжий писал, что командир корабля, капитан первого ранга Е. Н. Голиков характеризовал недовольство команды броненосца питанием «как настоящий бунт против него, капитана корабля, и самого царя» (Революционное движение в Черноморском флоте…, 1956, с. 39). Мемуаристом упомянут от имени Е. Н. Голикова и вопрос монархической присяги матросов, за нарушение которой офицеру грозила смертная казнь (Там же).
Законодательный акт начала XX в., с наибольшим вниманием к которому относились советские мемуаристы периода оттепели, – Октябрьский манифест 1905 г. Факт придания государственному строю России формы дуалистической монархии, даже с элементами конституционной, требовал рефлексии и объяснения продолжения революционного насилия с обеих сторон. В частности, П. М. Никифоров объяснял разочарование матросов-балтийцев от манифеста тем, что императорская власть не проговорила роль вооруженных сил и права военнослужащих: «Что же мы не равноправные граждане, что ли?»; «Может, все останется по-старому и по-прежнему можно будет морды нам бить?» ( Никифоров , 1958, с. 44‒45).
Г. М. Шаршавин характеризовал Октябрьский манифест как «манифест, в котором было немало лживых обещаний» ( Шаршавин , 1962, с. 14‒19). Все свободы, которые там были указаны, мемуарист назвал «самым отъявленным обманом» (Там же). Подчеркивая трусость императора, автор (и не только он) цитировал известную песню на мотив «Ухарь-купец» с таким текстом:
«Царь испугался ‒
Издал манифест:
Мертвым свободу,
Живых под арест» (Там же).
Он также цитировал антимонархические частушки, активно распространившиеся в период революции 1905‒1907 гг. в Верхнем Поволжье, которые исполняли «нисколько не таясь»: «Бога нет, царя не надо, губернатора убьем, податей платить не будем, во солдаты не пойдем» (Там же, с. 21). При этом автор отмечал факт, который им представлялся как очевидный, что в иные времена и при иных обстоятельствах «не каждый бы осмелился открыто спеть такое», в отличие от революционного времени, когда «волостной старшина, урядник и его подручные-стражники, сотские и десятские заметно поджали хвосты» (Там же).
Советский военный и государственный деятель К. Е. Ворошилов, отмечая демонстрации разных политических сил (либеральных, монархических и социалистических) в донбасских городах и селениях в связи Октябрьским манифестом, вспоминал слух, предположительно пущенный черносотенцами, о том, что «евреи собирают деньги на гроб императору Николаю ІІ» и намерены «извести царя». Такие слухи, согласно мемуаристу, взбудоражили обывателей ( Ворошилов , 1968, с. 206‒207). Таким образом, манипулирование монархическими чувствами все еще признавалось тем, что могло нейтрализовать революционную пропаганду.
Красноречиво роль манифеста проговаривал уже в 1960-х гг. депутат дореволюционной Государственной Думы, публицист Василий Витальевич Шульгин. Рефлексируя над определением Готского альманаха («Россия с 1905 года как Конституционная империя под самодержавным царем»), В. В. Шульгин писал в своих черновых записях к воспоминаниям: «Но Гота ошибся. Конституция была спорная, а самодержавия фактически не существовало с той минуты, как Николай II взошел на престол. По натуре своей он не мог быть самодержцем» (ГАРФ. Ф. р-5974. Оп. 1. Д. 306. Л. 29). Намекая на установление сталинизма с конца 1920-х гг. В. В. Шульгин так завершал свою мысль: «После окончания гражданской войны, как показали события, утвердилась устойчивая форма правления. Как ее определяет Гота, мне неизвестно» (Там же).
В мемуарах периода оттепели зачастую встречается характеристика российского самодержавия как института и персонально императора Николая II как политических акторов, несущих ключевую ответственность за ввязывание России в Первую мировую войну и за поражения в ее ходе. Например, профсоюзный и партийный деятель А. А. Бабицын охарактеризовал как «действительных изменников и предателей» императорское правительство, которое, по его словам, «положило миллионы солдат на полях Волыни и Галиции» (ГАРФ. Ф. р-9603. Оп. 1. Д. 13. Л. 11). Председатель президиума Всесоюзной торговой палаты М. В. Нестеров, в свою очередь, считал царские власти виновными в разжигании шовинизма и национализма в начале Первой мировой войны и в росте активности черносотенных организаций в это время (Слово старых большевиков…, 1965, с. 182‒183).
Генерал-майор Русской императорской армии и генерал-лейтенант Рабоче-крестьянской Красной армии Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич признавал ключевую роль Первой мировой войны в делегитимации институтов русского самодержавия и персонально Николая II ( Бонч-Бруевич , 1957, с. 7‒8).
М. Д. Бонч-Бруевич при описании сцены начала Первой мировой войны достаточно много внимания уделил своему участию в монархических церемониях и ритуалах, в частности – произнесению в качестве командира полка верноподданнической речи после оглашения императорского манифеста о начале войны (Там же, с. 13‒14). Именно в описании этого эпизода биографии мемуарист посчитал нужным разъяснить свою позицию в отношении институтов российской монархии и персонально Николая II. М. Д. Бонч-Бруевич прямо называл свою позицию в тот период монархической, но и четко проговаривал те эпизоды биографии императора, которые дискредитировали и персонально его, и дом Романовых, и в целом институты российского самодержавия: «В призыве умереть за царя... опытное ухо могло обнаружить еще более неуверенные нотки – я, как и многие офицеры, считал себя монархистом, но не мог соединить положенное “обожание” с рассказами о проломанной в Японии голове Николая, тогда еще наследника, о Ходынке, о царском пьянстве и, наконец, о Распутине, влияние которого на царскую семью нельзя было ни оправдать, ни объяснить...» (Там же, с. 14).
Свою верноподданническую речь генерал назвал «фальшивыми словами в псевдорусском стиле» (Там же, с. 13‒14). Описывая этот эпизод, автор отдельно подчеркнул, что ему нелегко понять период начала Первой мировой войны, свои мысли и чувства и еще сложнее «тогдашнему полковнику Бонч-Бруевичу понять теперешнего», 1950-х гг. мемуариста (Там же).
Отдельно автор отметил, что император Николай II не годился на роль верховного главнокомандующего войск в условиях Первой мировой войны, причем согласие с такой позицией приписано тем, кто «по привычке считал себя до конца преданным монархии», а первая попытка царя принять командование названа «безумной» (Там же, с. 113‒114).
Академик К. В. Островитянов акцентировал внимание на внешнеполитических и внутриполитических предпосылках революционных событий 1917 г. Он отмечал «большую тревогу среди буржуазии и ее идеологов» из-за слухов о подготавливаемом Николаем ІІ сепаратном мире с центральными державами, с которым связал знаменитую речь П. Н. Милюкова «Глупость или измена?» в ноябре 1916 г. (Слово старых большевиков…, 1965, с. 155). Но в кризисных условиях, по оценке этого автора, «ни венценосный монарх, ни его правительство, ни окружающая трон камарилья не отдавали себе отчета в назревающих событиях в стране» (Там же).
Мемуаристы обращали внимание на антимонархическую активность в войсках в канун Февральской революции. А. И. Тимофеев в своих воспоминаниях отмечал, что в начале февраля 1917 г. маршевая рота в его полку отказалась снять на молитвах шапки. В ответ на это солдатам было предъявлено обвинение в разложении армии в условиях военного времени и агитации против царского самодержавия, которое грозило смертной казнью (ГАРФ. Ф. р-7012. Оп. 1. Д. 14. Л. 20). На примере своего полка, дислоцировавшегося на позициях у озера Нарочь, участник Первой мировой войны С. А. Калинин подчеркивал отношение солдат в январе 1917 г., пребывавших в действующей армии, к монархическим институтам: «На все лады проклинали царя и правительство» ( Калинин , 1963, с. 14).
Матрос дореволюционного Балтийского флота, а в советское время – военнослужащий Экспедиции подводных работ особого назначения Н. А. Ховрин описал восторженную реакцию петроградцев на крах самодержавия, которое связывалось с отречением не Николая II, а отказом от власти великого князя Михаила Александровича ( Ховрин , 1987, с. 155). Мемуарист акцентировал внимание на иллюзиях, сопровождавших крах монархии: «Многие рабочие, присутствовавшие на митинге, искренне считали, что победа теперь уже достигнута, что вместе с отречением царя как по мановению волшебной палочки изменится вся жизнь. Они еще не подозревали о том, что их мужеством и кровью воспользовались те же самые хозяева, на которых они так долго гнули спину» (Там же).
В воспоминаниях М. Д. Бонч-Бруевича подробно освещена тема краха российского самодержавия в ходе Февральской революции, которая в его изложении стала не внезапным собы- тием, а логичной развязкой кризиса самодержавия. Персонально про себя он отмечал, что «разочарование в династии пришло не сразу» и «трусливое отречение Николая II от престола» называлось автором только «последней каплей, переполнившей чашу моего терпения» (Бонч-Бруевич, 1957, с. 7). Среди кризисных этапов делегитимации самодержавия мемуарист называл Ходынку, Русско-японскую войну, революцию 1905‒1907 гг. и распутинщину (Там же).
В итоге свою реакцию генерал описывал следующим образом: «Я вспомнил излюбленную фразу Рузского о Ходынке и подумал, что предсказанный им крах самодержавия наступил» (Там же, с. 121). Одновременно он подчеркивал растерянность генералитета и офицерства из-за событий Февральской революции и отречения Николая II (Там же, с. 121‒122). М. Д. Бонч-Бруевич, характеризуя свою реакцию на отречение Николая II, подчеркнул и свою растерянность: «Еще меньше... я знал, что ждет сбросившую ненавистное самодержавие огромную, озлобленную трехлетней бессмысленной бойней страну» (Там же). Он подчеркнул, что это событие представлялось предвестником еще большего хаоса (Там же). Таким образом, крах самодержавия мемуарист все равно характеризовал как негативное событие. В оценках из его воспоминаний институты российской монархии, при всех возможных оговорках, признаются ключевым стержнем российского государства, которому не просматривалось явных альтернатив. Более того, автор подчеркивал, что крах самодержавия оказался его личным крахом, обнулением социального капитала и социальных связей (Там же, с. 124). Также мемуарист утверждал, что даже не сам крах монархии, а отречение персонально Николая II стало сильным ударом по боеспособности российской армии: «Я был убежден, что созданная на началах, объявленных приказом, армия не только воевать, но и сколько-нибудь организованно существовать не сможет» (Там же).
М. Д. Бонч-Бруевич, цитируя лично присутствовавшего на подписании акта отречения генерала Н. В. Рузского, констатировал невозможность реставрации монархии из-за дискредитации династии Романовых (Там же, с. 122‒123). Само отречение Николая II, по описанию мемуариста, штабные и гарнизонные офицеры и генералы характеризовали как «проявление присущего последнему царю безволия» (Там же, с. 132).
Особняком стоят характеристики краха самодержавия со стороны В. В. Шульгина. Его участие в событиях февраля ‒ марта 1917 г. стало центральной темой фильма «Перед судом истории», вышедшего в 1965 г. [ Репников , Христофоров , 2009, с. 165-166] Наибольший интерес представляют даже не открыто высказанные в фильме и дальнейших публикациях мемуарного наследия В. В. Шульгина тезисы об этих исторических событиях, а обоснования его поведения в это время, которые встречаются в его черновиках и замечаниях к фильму. Насчет своего участия в принятии отречения В. В. Шульгин говорил, что «верноподданный, который глубоко скорбел о трагическом положении своего монарха, должен был быть около него в самую тяжелую минуту» (ГАРФ. Ф. р-5974. Оп. 1. Д. 304. Л. 13).
Сама формулировка названия снимавшегося фильма «Перед судом истории» стимулировала размышления автора о своей вине в трагической развязке судьбы Николая II и его семьи и одновременно поднимала вопрос об ответственности большевиков за казнь царской семьи:
– Пред судом. Только неизвестно, кто кого судит
– Понимаю, ведь он принял отречение Николая II.
– Он. А убили его?
– Другие. Об этом лучше не говорить (Там же. Л. 47 об.).
Переходя к выводам, заметим, что в период разгара оттепели и установления застоя в 1957‒1973 гг. в СССР было издано около трехсот документальных сборников только по истории революции 1917 г.; это сильно превышало частоту публикаций в период сталинизма [ Ганелин , Ирошников , Соболев , 1987]. Также стоит отметить комплексы публикаций, приуроченные к юбилеям революции 1905 г., создания Красной армии, 100-летию В. И. Ленина. В особенности конец 1960-х гг. стал «временем юбилеев», что и обусловливало повышенную публикационную активность [ Козлов , 2014, с. 187‒188]. Сюжеты, посвященные монархическим силам, в этих мемуарных источниках освещены косвенно. Основное внимание уделено деятельности большевистской фракции РСДРП.
Для советских мемуаристов периода оттепели был характерен повышенный интерес к фактору «общественных масс» и пониженный – к «роли личности в истории». Это вполне соответствовало сложившимся историографическим установкам [ Сидорова , 1997]. Таким образом, в описании кризисных ситуаций и действий самодержавных институтов большее внимание уделялось не персоналии императора Николая II и членов императорской фамилии, а действиям царского правительства и силовых органов. Именно полицейский, армейский и жандармский аппарат для мемуаристов, особенно активистов революционного движения начала XX в., был «лицом» самодержавия. Термины «царизм» и «самодержавие» применялись преимущественно не в связке с персонами императора и членов дома Романовых, а по отношению к социальнополитическому строю дореволюционной России в целом. Особое место занимают тезисы участников революционных событий 1905‒1907 гг. К. Б. Басина и П. М. Никифорова, не делавших различия между российской и зарубежными европейскими монархиями. Революционная деятельность, таким образом, признается патриотической [ Аксенов , 2023, с. 415] в противовес космополитическим аспектам монархизма.
Мемуаристы периода оттепели практически не давали нейтральных и положительных оценок российской монархии и персоналии Николая II. Однако самодержавие признается не имманентным злом, по своей сути отстаивавшим узкие сословные или классовые интересы. Авторы упоминали проявления верноподданнических настроений среди непривилегированных сословий России, в особенности до «Кровавого воскресенья» 9 января 1905 г. Многие мемуаристы отмечали, что монархия дискредитировала и делегитимизировала себя неадекватной реакцией на кризисные события.
Именно в период оттепели, снова с 1920-х гг., стал возможен подробный рассказ о предреволюционном прошлом России и от имени «бывших» – таких лиц, как генерал-майора царской армии М. Д. Бонч-Бруевича и одного из парламентских лидеров монархистов В. В. Шульгина. Этим авторам, по-разному пережившим период с революции до оттепели, принадлежат наиболее развернутые размышления о сути российского монархизма начала XX в. и о действиях самодержавной власти в условиях кризиса. Эти мемуаристы приводили оценки краха самодержавия как негативного события, что демонстрирует некоторое смягчение конфронтационных нарративов в отношении российской монархии. Однако только В. В. Шульгин сделал попытку осмысления сходств властных практик дореволюционной Российской империи и СССР.