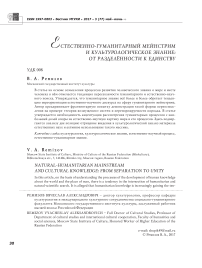Естественно-гуманитарный мейнстрим и культурологическое знание: от разделённости к единству
Автор: Ремизов Вячеслав Александрович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Философия культуры
Статья в выпуске: 3 (77), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе осмысления процессов развития человеческого знания о мире и месте человека в нём отмечается тенденция пересекаемости гуманитарного и естественно-научного поиска. Утверждается, что гуманитарное знание всё более и более обретает тенденцию переориентации естественно-научного дискурса на сферу гуманитарного мейнстрима. Автор предпринимает фрагментарную попытку демонстрации такой формы переосмысления на примере «теории возмущения» систем и перенормируемости порядка. В статье утверждается необходимость акцентуации рассмотрения гуманитарных процессов с наибольшей долей опоры на естественно-научную картину мира и его процессов. Здесь подвергаются анализу две позиции: отрицание введения в культурологический анализ материала естественных наук и активное использование такого массива.
Культурология, культурологическое знание, естественно-научный процесс, естественно-гуманитарное знание
Короткий адрес: https://sciup.org/144160707
IDR: 144160707 | УДК: 008
Текст научной статьи Естественно-гуманитарный мейнстрим и культурологическое знание: от разделённости к единству
В последнее время мы всё чаще и чаще из уст физиков (М. Ковальчук), химиков, биологов (Р. Леви-Монтальчини) и некоторых гуманитариев (И. Кондаков) слышим утверждение о новом витке развития науки, который определяется слиянием ествественно-научного и гуманитарного знания. Это явление полнее всего проявляется в культурологии, оно даже нашло название «естветственно-культурное знание» или «ествественно-гуманитар-ный мейнстрим» [3, с. 122].
Вообще говоря, история культуры связана с тем, что человек всегда искал объективное объяснение происходящему в мире и с ним.
Вначале смыслы бытия связывались с водой, воздухом, огнём, с прочими стихиями. Затем в познание стали вводить мыслительные конструкты. Возникла идея эйдоса, тема «абсолютной идеи», феномен Воли. Однако, уже начиная с Пифагора, затем Ньютона и Рене Декарта, внимание было переключено на эмпирику. Научное знание набирало обороты. При этом параллельно развивалась и мысль человека о его созидательной деятельности в реальном мире. Так возникли понятия Вэнь (Китай), Вандза (Египет), Пайдейя (Греция). И, наконец, всё это переплавилось и слилось с понятием “culturelle” – возделывание, выращивание … «по мерке человека». Идея культуры, культуротворчества в сознании человека вызрела в наиболее общую категорию, охватывающую все сферы научного поиска, в центре которого находится человек как цель и средство, как субъект и объект познания и преобразования мира.
Особенный интерес здесь представляет конец ХIХ века – начало ХХ века и настоящее время. Человек открывает радиоактивность, является свидетелем «исчезновения материи». Лобачевский приходит к выводу о непараллельности в пространстве, а Эйнштейн формулирует свой закон энергии, изменяя общее представление о пространстве, времени, скорости и энергии.
В этих условиях изменяются нормы «мерки человека» и меняется всё: перспектива, модель мира, представление о должном, развиваются пределы систем развития.
Не случайно в это время формируются новые концепты культуры как созидательной деятельности в четырех формах: а) как системно-технологическая практика (от К. Маркса к М. С. Кагану и Э. С. Маркаряну); б) как субъектно-деятель- ностный процесс (В. М. Межуев, В. М. Келле, М. Я. Ковальзон); в) как созидание знаков-символов (Л. Уайт); г) как система текстов (Ю. М. Лотман, К. Леви-Стросс); д) как диалогический процесс (М. М. Бахтин, В. С. Библер и другие).
Особенный интерес представляет активация переплавки естествознания в логику гуманитарного мышления. Это фиксируется в концептах Бахтина и в открытых им законах функционирования культурных процессов, таких как: а) диалогичность культуры (культуры пересекаются); б) закон «взаимной вины» творца и народа (субъекты культуры взаимно детерминированы).
Очень интересны возникновение и разработка им категории «хронотоп». Характерно, что это понятие до него в биологии употреблял академик В. Ухтомский, затем его содержание прорабатывалось в теории относительности А. Эйнштейна. Бахтин, как известно, ввёл его в содержание характеристик культурных процессов [1, с. 445].
Сегодня сквозь рамки пригожинской теории синергетизма в культурологическое знание входят такие категории, как «культурный лаг», «точка бифуркации», «духовная энтропия», «культурный взрыв».
На фоне развития генетики (расшифровка генома человека и животных), открытия «частицы бозона», измерения силы гравитации и т.д. активно разрабатываются такие понятия культуры, как «культурная матрица»; отвергается сте-пинская характеристика культуры как «внебиологического» способа созидательной деятельности, обогащается идея Вернадского о ноосфере Земли. Развивается культурологическая теория «ри- сков культурной динамики», «пределов культурного роста», математического концепта «гармонического культурного развития», «устойчивого культурного процесса».
Здесь большую роль играет дальнейшее культурное осмысление «принципа дополнительности» Н. Бора; концепции перенормируемости в развитии материальных и социокультурных систем, образуемых человеческой созидательной деятельностью. Так, к примеру, проповедуемая многими современными писателями, актёрами, режиссёрами допустимость ненормированной лексики (Э. Лимонов, В. Сорокин, В. Пелевин, И. Губерман, пресловутый «Шнур» и другие) оборачивается криминализацией сознания общества, что приводит к терпимости по отношению к преступности, к утрате стыда и совестливости в массовом масштабе, а в итоге – к культурному «опустошению» и к аморализму. Акцент художественных обобщений на «братках» и «бригадах» оборачивается героизацией преступного мира, бандитов, уголовников, что по- рождает так называемое «заражение от криминала».
Оправдание в общественном мнении проституции, сексуальной вседозволенности влечёт за собой оправдание совращения малолетних, «свободного» сожительства, что ведёт к ухудшению здоровья населения, к бесплодию, к появлению феномена «матерей-отказниц», женского (что хуже всего) морального цинизма и пьянства. В целом отсюда и возникают и неустойчивость семьи, и явление «неполной семьи», и упущения в воспитании детей в таких семьях.
Последнее время культурологическая практика осваивает вывод физиков о том, что в реальном мире процессы регулируются одновременно двумя «динамическими волнами взаимодействия»: так называемой «путевой» и «энергетической», то есть одна связана с направлением, а другая – с циклами, с фазами, с мощностями проявления динамических процессов. Другой вывод касается того, что, согласно квантовой теории частиц, формирующие моменты сознания, одновременно летят в две расходящиеся стороны, то есть сознание «живет одновременно» в «Да» и «Нет». Здесь актуализирована и идея реалити-хаоса и бифур-кационности развития. Это позволяет усложнять и объективизировать анализ социальных процессов.
Однако мы, гуманитарии, всё ещё описываем и анализируем процессы только в модели или «Да», или «Нет». Отсюда опять пробуждается интерес к волновой концепции социокультурных процессов отечественного исследователя Н. Д. Кондратьева; неслучаен интерес к этнологу П. Бурдье с его категориями «культурный ресурс общества», «человеческий культурный капитал», «культурный габитус», «социальное поле», активизируется типизирование культурных процессов на основе теории взаимодействий, коммуникаций (А. Я. Флиер). Наконец, мощный прирост культурологическому мышлению придало развитие информационного мира. Мы переходим на «цифру», мы мыслим себе «цифровую личность», «виртуальную реальность», мы вводим в анализ такие мыслеомы, как «культуре-ма», «симулякр», «тезаурус», «дискурс», «текст», «гипертекст», «ризома». Возникает литература по данным категориям. Вот, например, мы пишем об «информационном мире», о «поколении next» и
«homo virtualis», но недостаточно исследуем культурные модели виртуального пространства в его соприкосновении с человеком.
Так, В. В. Аристархов сетует о том, что нет исследований о детерминировании духовного мира личности телевизионной культурной сеткой, его ценностными ориентирами. Таких работ в обобщающем блоке пока нет [4, с. 120].
В мире известны культурные программы генерации «майданов», а мы не генерируем наших культурных «программ» профилактики или нейтрализации подобных явлений. Однако мы точно знаем, что существует социокультурное явление общественной «аномии», что чем в меньшей мере действенны культурные демпферы «бунта толпы», тем вынуждено становится более жестоким, менее гуманным государство, расширяются его пеницитарные структуры, но это обстоятельство пока не порождает необходимого направления культурологических исследований, а они, между тем, теоретически подготовлены и возможны, да и необходимы. Во всяком случае, западная гуманитарная мысль уже продуцировала социальные монографии по технологиям «разжигания» майданов [2, с. 21]. Правда, взаимосвязь данных естественных наук, их открытий не может быть стихийной, прямолинейной.
Всё-таки социальная жизнь и жизнь неживой матери – разная ипостась. В одном из своих выступлений профессор И. В. Кондаков приводил примеры вульгарного введения технических элементов в культурной ареал аналитики. Однако есть и другое – некая боязнь и отторжение в культурологии данных естественных наук, их открытий.
Мы иногда лелеем мысль, что настоящие открытия и прорывы в знании осуществляются на стыке наук, но на деле отвергаем эти «стыки».
Современность рождает новое понимание культурологии и культуролога, от которого требуется широкая, в том числе и ествественно-научная эрудиция, позволяющая в культурном мышлении продуцировать инновационную мысль. Только так мы можем действительно развивать культурологический дискурс и приходить к подлинно научным результатам.
Как показывает опыт, в исследованиях последнего времени мы, может быть не в меру, сосредоточились на предметах, непосредственно нас окружающих: виды искусства, учреждения культуры, СМИ, отдельные исторические факты, частные явления. Их, конечно, не отбросишь, и они представляют интерес. Но плохо, что всё это изучается в одном ключе: чаще всего в конструкции: «Характеристика … как феномен; как явление культуры».
Получается – скользим по поверхности, а часто и производим в научной практике перепев разных тем «на одну мелодию».
Естественно-гуманитарный взгляд заставляет точнее и грамотнее, системнее и поливариативнее анализировать ключевые социокультурные объекты, процессы. Это касается и деятельности человека в основных сферах общества, и вопросов человеческих коммуникативов, и цивили- зационных процессов, и этнонациональ-ной проблематики, и системы человека – машина, и системы ценностной ориентации людей в быстроизменяющемся и глобализирующемся мире.
Список литературы Естественно-гуманитарный мейнстрим и культурологическое знание: от разделённости к единству
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / [примеч. С.С. Аверинцева, С.Г. Бочарова]. 2-е изд. Москва: Искусство, 1986. 446 с.
- Безуглова Н.П. «Культурный поворот» в западной культурологии // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2010. № 6 (38). С. 21-27.
- Ирхен И.И. Образование в области культуры и искусств в условиях реформируемой России: состояние и тенденции // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2010. № 3 (35). С. 122-129.
- Садовская В.С., Ремизов В.А., Бруккауф З.Л. Культура научного творчества: о чём не пишут в учебниках. Москва: Наука, 2012. 96 с.