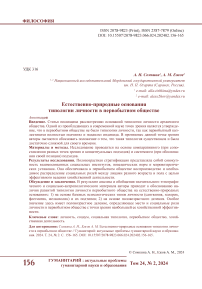Естественно-природные основания типологии личности в первобытном обществе
Автор: Сомкина А.Н., Ежов А.М.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (66), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. Статья посвящена рассмотрению оснований типологии личности архаичного общества. Одной из преобладающих в современной науке точек зрения является утверждение, что в первобытном обществе не было типологии личности, так как первобытный коллективизм полностью подчинял и подавлял индивида. В противовес данной точке зрения авторы пытаются обосновать положение о том, что такая типология существовала и была достаточно сложной для своего времени.
Личность, социум, социальная типология, первобытное общество, хозяйственная деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/147243811
IDR: 147243811 | УДК: 316 | DOI: 10.15507/2078-9823.066.024.202402.156-165
Текст научной статьи Естественно-природные основания типологии личности в первобытном обществе
Первобытное общество в своем историческом развитии прошло сложный путь от первобытно-коммунистической общины к цивилизованному социуму. Отсутствие частной собственности и классовой дифференциации [15] обусловили господство уравнительных отношений в родоплеменном коллективе. Платой за такие отношения, имевшие главной целью выживание и продолжение рода, было безраздельное подчинение личности коллективу. «Первым зачатком обобщения в природе, – такого еще неопределенного, что оно едва отличалось от простого впечатления, – пишет П. А. Кропоткин, – должно было быть то, что живое существо и его племя не отделены друг от друга» [10, с. 59] (курсив автора. – А. С., А. Е.).
По вопросу времени возникновения личности в научном сообществе нет единого мнения [14]. До недавнего времени доминировали представления о том, что в архаическом обществе личность еще не могла сформироваться. Данная позиция строилась на положении о безусловном приоритете коллективного сознания над индивидуальным, подавлявшем всякое проявление личностного сознания и требовавшего (посредством табуизации социальных отношений) соблюдения общепринятых традиций и обычаев, неисполнение которых строго каралось, вплоть до смерти нарушителя (Э. Дюркгейм, У. Самнер, Ф. Теннис и др.).
Однако справедливость такого подхода к трактовке первобытного общества и личности вызывает серьезные сомнения. Дело в том, что столь грубый социологизм не оправдан с научной точки зрения и не объясняет факты из древней истории, описывающие формы проявления индивидуальности в ту далекую эпоху. Так, например, британский антрополог Б. Малиновский, развивавший идеи функционального подхода к культуре, отмечал, что «дикарь не может быть рассмотрен ни как крайний коллективист, ни как крайний индивидуалист» [25, p. 56]. Сегодня мы знаем о первобытном обществе достаточно, чтобы с большой долей уверенности утверждать о наличии у архаичной личности определенной индивидуальности как некоторого набора свойств, отличающих ее от других индивидов. Это четко прослеживается в бытовых отношениях, например соблюдение дистанции при общении или отправлении обрядов; имена и прозвища, даваемые в соответствии с проявляемыми индивидуальными качествами; потребность в уединении в преддверии каких-либо важных событий и т. д.
Из данного утверждения вполне логично вытекает то обстоятельство, что отсутствие классовой типологии, присущей цивилизованному обществу, отнюдь не отрицает наличие таковой в принципе. Такая типология существовала в виде двух разновидностей естественной (природной) типологии:
-
1) психологической, основанной на различении четырех типов: холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик (и их промежуточных вариаций);
-
2) половозрастной (по различиям пола и возраста, обусловливающим общественное положение и род занятий). Данное утверждение подтверждается наличием такой дифференциации у многих архаичных народов Африки, Австралии, Новой Гвинеи
и др., сохранивших свои традиции до наших дней [1–6; 13].
Материалы и методы
Изучение первобытного общества с точки зрения специфики половозрастных структур было начато еще в XIX в. известными немецкими этнографами антропологами Г. Шурцем, Л. Фробениусом, Г. Куновым и др. Так, Г. Шурц полагал, что в основе такого деления лежат психофизиологические причины конфликтов между старшими и младшими поколениями и естественное желание снизить конфликто-генность в данной социальной группе [27]. В отличие от него Л. Фробениус исходил из того, что древних обществах преобладал «стадный инстинкт», который помогал первым людям сбиваться в группы [18]. Г. Кунов указывал в качестве причин возникновения таких систем вопросы регулирования брачных отношений [21].
Среди отечественных ученых данный вопрос исследовался С. П. Толстовым, С. Б. Чернецовым и др., которые объясняли возникновение возрастных классов процессом становления этноса [17; 19]. В отличие от них А. А. Попов предположил, что деление общества на возрастные страты обусловлено прежде всего спецификой хозяйственной деятельности [11].
Обобщая разные точки зрения, можно с высокой долей вероятности предположить, что архаичная возрастная классификация возникла в процессе формирования Homo sapiens и человеческого общества (в ходе антропосоциогенеза) и была достаточно распространена. Причины ее возникновения, видимо, следует искать в сочетании таких условий (возникновение первых моральных отношений и нравственных запретов), при которых сложившееся в естественно-природных условиях половозрастное разделение труда особым способом стратифицировало общество не по кровному родству, а по принципу сверстничества.
Только физические возможности и жизненный опыт имели решающее значение в жизнедеятельности первобытного общества и могли гарантировать его выживание.
Результаты исследования
Возникновение архаичных обществ одновременно сопровождалось формированием внутри них особой социальной организации на основе половозрастного деления как наиболее универсального способа структурировать весь комплекс возникающих социальных связей и упорядочить нормы общественной и хозяйственной жизни, особенно те, что касались приема пищи и порядка вступления в брак (т. е. распределительных и половых отношений) [22, p. 29]. Поэтому возрастные классы представляли собой достаточно жестко иерархически организованные группы, за членами которых закреплялись определенные обязанности и полномочия по отношению к обществу как целому.
Прежде чем продолжить наши рассуждения, необходимо сделать следующее уточнение относительно понятийного аппарата. В современной научной литературе понятие «возраст» объясняется в рамках двух ключевых подходов:
-
1) с точки зрения физиологии (как естественно-возрастные изменения, описываемые таким термином, как «биологический возраст» и т. д.);
-
2) с точки зрения социокультурного содержания (раскрывающегося в таком понятии, как «социальный возраст»).
Термином «биологический возраст» обозначается «стадия физиологических изменений, определяемых общим состоянием нервной системы, которые происходят с индивидом на протяжении всей его жизни и могут носить как прогрессивный (взросление), так и регрессивный характер (старение)» [20, p. 189–190].
Именно биологической возраст постепенно становится основой социализации первобытного человека, позволяя ему при этом эффективно разделять хозяйственные, социальные и управленческие функции между членами древнего социума [23, p. 107–108]. Такое положение закрепляется архаичными обществами в традициях и символических актах, указывающих на различия в социальном положении и, таким образом, выступающих основой процесса социализации и аккультурации индивида.
В результате такой социокультурной адаптации человек включается в систему так называемого социального возраста, понимаемого в качестве «концептуализации физиологического возраста с целью социальной включенности» [20, p. 189], т. е. уровня выполняемых им ролей.
Данная социальная организация прямо связана с основными (пищевыми и половыми) табу, которые очень четко соотносятся с социальной и возрастной иерархией. У бушменов Африки, например, «половозрастная стратификация находит свое выражение в пищевых табу, запрете людям разного возраста и пола... принимать некоторые виды пищи» [28, p. 97–101]. В Австралии в племени нгуаны употреблять в пищу мясо могли только старшие мужчины, в отличие от женщин, детей и подростков, которым строжайше запрещалось это делать. За соблюдением данного табу внимательно следили взрослые мужчины [26, p. 769]. У североамериканских индейцев разрешение есть мясо животных определялось возрастом и социальным статусом. Старшие члены племени почти полностью освобождались от табу, в то время как поведение молодежи строго табуировалось [9]. Данный архаичный пережиток сохранился, например, у некоторых народов как право принимать пищу во время трапезы только после старшего.
Еще одной важной составляющей в вопросе воспроизводства коллектива было появление норм, ограничивающих сферу полового поведения. В основе этого процесса лежали естественные факторы, связанные с разным уровнем потребностей мужчин разного возраста в женщинах. Для демонстрации зрелости и социальной полноценности был оформлен институт брака как ступень, означающая переход в состояние зрелости (право иметь семью и детей). Таким образом, брак определял движение по социальной иерархии в направлении более высокого социального положения и расширения сферы прав и обязанностей.
Постепенно стратификация древнего общества по социальному возрасту (т. е. приобретение особого социального статуса и внешних знаков отличия для младших и старших поколений) на ранних этапах социогенеза приобрело особое социокультурное содержание и закрепилось в форме поведенческих норм (табу).
Кроме отмеченных выше полового и пищевого табу, регламентация поведения людей в ту эпоху осуществлялась и на основе множества других запретов. Так, например, существовали правила, налагавшие запрет для молодых носить определенные виды одежды, украшения, иметь оружие, наносить боевую раскраску на тела или ритуальные шрамы, произносить табуированные слова и т. д.
Следовательно, помимо аксиогенной функции, табу обладали функцией социально-возрастной дифференциации и функцией регуляции поведенческих норм, возникавших в процессе социогенеза. Иными словами, табу, стратифицируя архаичное общество, одновременно формировало у молодого поколения амбивалентные чувства страха и уважения к старшим, т. е. к тем, кому было позволено делать то, что запрещалось молодым [4].
Еще один универсальный способ социальной дифференциации основывался на половых различиях. В процессе формирования первобытного общества начали складываться представления о природе муж- ского и женского начал и, соответственно, о разделении социальных и хозяйственных функций не только сугубо на биологических основаниях, но и на культурных, связанных с представлениями о предназначении мужчины и женщины в рамках этнической протокультуры. Пол, как и возраст, содержащий в себе определенные физиологические особенности, в архаичном человеческом сознании наделялся символическим содержанием и перекодировался в категорию культуры, которая вбирала в себя уже целый комплекс протоценностных (мировоззренческих) установок.
Культурная специфика пола (т. е. особый набор присущих данной культуре поведенческих стереотипов и ценностных ориентаций, социальных и хозяйственных функций), в отличие от биологической составляющей, определяемой фактом рождения, передается и усваивается лишь в процессе социализации. Взрослея, человек как представитель своей социальной группы все сильнее включается в общественные связи. Интенсификация этого включения происходит на основе ассоциации с половой принадлежностью, так как главной целью архаичного общества было выживание; а значит, увязывалось с приобретением, равно как и последующей утратой жизненно важной функции по воспроизводству. Очевидно, что наибольшим количеством социально-хозяйственных характеристик, связанных с половозрастным статусом, индивид наделяется в период половой зрелости, в то время как дети и старики часто в древних обществах рассматривались как бесполые.
Таким образом, в первобытном обществе половозрастной критерий (т. е. ин-териоризация взрослеющим индивидом социоконституирующих установок, касающихся нормативного поведения мужчин и женщин в данном конкретном этносе) выступает отправной точкой для социальной организации племени и его эффективной хозяйственной деятельности.
Классическим примером возрастных классов считается система Гада, распространенная (особенно в прошлом) у восточноафриканских народов: оромо, нуэ-ров, консо, масаев и некоторых других. Их возрастная система охватывает весь жизненный цикл человека – от рождения до смерти – и исчисляется по так называемому социальному возрасту, прямо не связанному с количеством прожитых лет [7, с. 59–63]. Поэтому место в общественной и хозяйственной иерархии занимается индивидом в соответствии с его «социальным» возрастом безотносительно его биологического возраста. Например, в племени кикуйю из кенийской народности банту определено шесть возрастных стадий для мужчин и восемь для женщин [24, p. 159].
Социальный возраст не совпадал с биологическим, так как для него отправной точкой служил момент формирования возрастной группы. Поэтому все члены данной группы в социальном смысле были сверстниками, хотя и могли иметь разный биологический возраст. Причина кроется в том, что формирование новых групп для возрастного класса происходило не каждый год, а через определенный интервал: от трех до тринадцати лет. Те из группы, кто не смог пройти испытание и перейти на следующую возрастную ступень, оставались в прежней возрастной группе и считались детьми [8].
Организация очередной возрастной группы и переходы других групп на следующие возрастные ступени предполагают прохождение особых ритуалов и устанавливаются с помощью специальных испытаний (инициаций), которые «конструируют нового полноправного члена социума, наделяя его новыми социально-психологическими качествами» [16, с. 93].
Институирование половозрастной стратификации происходило, как правило, изо- лированно от других членов племени или общины. Неофиты должны были поселиться отдельно в так называемые школы инициации и пройти ряд испытаний [27; 29]. Такая изоляция в социальном смысле означала разрыв с миром детства и с состоянием безответственности. Сталкиваясь с трудностями и болью, мальчик начинал понимать, что больше не сможет вернуться домой прежним.
Такие поселения выполняли и образовательные функции. В общинных «школах» молодые люди обучались навыкам изготовления и владения оружием и орудиями труда, получали знания по ведению хозяйственной деятельности. Знакомились с тайными «откровениями» о создании мира, тайными практиками и т. д.
Инициация строится на трех откровениях, отсутствующих в опыте ребенка: о священном знании, смерти и сексуальности, открываемые и постигаемые во время ритуала и встраиваемые испытуемыми в структуру жизненного опыта уже в качестве взрослых людей.
В случае успешного завершения инициации в честь новых членов сообщества обычно устраивается празднество, на котором закрепляются их переход в качественно новое состояние уже как полноправных взрослых и наделение новыми социальными ролями и статусами.
При этом мужские и женские инициации осуществляются раздельно и имеют разные испытания. Женские проходили, как правило, гораздо мягче, чем мужские, и связывались с соблюдением некоторых табу на пищу и обучением, как правильно вести домашнее хозяйство, основам поведения в браке, знанию различных церемоний и обрядов и т. д.
Не прошедшие испытание оставались в прежнем социальном статусе. Такие члены общины ограничивались в правах (им запрещалось вступать в брак, владеть орудиями труда, обзаводиться хозяйством и т. д.) и были вынуждены в течение всей жизни (либо до прохождения повторной инициации и перехода в новый статус) выполнять функции, не соответствующие их биологическому возрасту, т. е. считались в социальном смысле детьми [12, с. 75].
Необходимо подчеркнуть, что область действия возрастных инициаций выходила далеко за пределы гендерной социализации. Они включали практически всю сферу жизнедеятельности первобытного общества, выступая в качестве механизма передачи социальных традиций в бесписьменную эпоху, равно как и формирования мировоззрения и самосознания архаичного индивида [16, c. 95], выступая, таким образом, в качестве универсального механизма преобразования личности.
Важно отметить, что подобные инициации взросления имели универсальный характер в древних обществах, т. е. были повсеместными и обязательными к исполнению. Сегодня они сохранились лишь в культурах некоторых отдельных племен, существование которых не затронуто цивилизацией. В большинстве современных социумов инициации присутствуют в сильно урезанном виде в различных субкультурах, в значительной степени утратив первоначальный замысел. Кроме того, обряды инициации сохранились и нашли отражение в упрощенном виде во всех основных миро- вых религиях (бар-мицва, конфирмация, упанаяна и др.).
Обсуждение и заключение
Подводя итоги всему вышеизложенному, можно сделать вывод о наличии развитой типологии личности первобытного общества на естественно-природных основаниях: 1) на основе базовых психологических типов личности (сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик) и их подтипов; 2) на основе половозрастного деления, определяющего место личности в структуре общества.
В эпоху действия системы возрастных классов такая система имела универсальное значение во всем комплексе социальных связей и в первую очередь определяла нормы употребления пищи и вступления в брак.
Таким образом, половозрастная стратификация представляла собой совокупность взаимосвязанных социальных институтов, поведенческих норм и мировоззренческих установок. Она обеспечивала в первобытном обществе воспроизводство и необходимое распределение социальных ролей между лицами разного возраста и пола с целью эффективного ведения хозяйственной деятельности. При этом, однако, не возникает самостоятельного социального организма, поскольку данная условная (по возрасту и полу) сегрегация носит локальный характер и происходит строго в рамках уже существующей социальной организации.
Список литературы Естественно-природные основания типологии личности в первобытном обществе
- Артемова О. Ю. Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине: по австрал. этногр. данным. М.: Наука, 1987. 199 с.
- Берндт Р. М., Берндт К. Х. Мир первых австралийцев. М.: Наука, 1981. 447 с.
- Бородай Ю. М. От фантазии к реальности: (Происхождение нравственности). М.: ИФРАН, 1995. 297 с.
- Бочаров В. В. Власть. Традиции. Управление. Попытка этноисторического анализа политических культур современных государств Тропической Африки. М.: Наука, 1992. 296 с.
- Бунак В. В. Род Homo, его возникновение и последующая эволюция. М.: Наука, 1980. 328 с.
- Бутовская М. Л. Тайны пола. Мужчина и женщина в зеркале эволюции. Фрязино: Век 2, 2004. 368 с.
- Калиновская К. П. К проблеме возрастных систем // Советская этнография. 1982. № 6. С. 59–63.
- Калиновская К. П. Категория «возраст» в представлениях некоторых народов Восточной Африки // Africana: Африканский этнографический сборник. Л., 1980. Вып. 12. С. 49–80.
- Калюта А. В. Ацтеки: родство, гендер, возраст. Опыт историко-социологического исследования мезоамериканского общества XV–XVII веков. СПб.: Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, 2006. 320 с.
- Кропоткин П. А. Этика. Избранные труды. М.: Политиздат, 1991. 496 с.
- Попов А. А. Материалы по родовому строю долган // Советская этнография. 1937. № 5. С. 116–139.
- Попов В. А. Половозрастная стратификация в этносоциальной реконструкции первобытности // Советская этнография. 1982. № 1. С. 68–78.
- Семенов Ю. И. Происхождение и развитие экономики: От первобытного коммунизма к обществам с частной собственностью, классами и государством (древневосточному, античному и феодальному). М.: КРАСАНД, 2019. 720 с.
- Сомкин А. А. Учение А. Дж. Баама о целостной личности и современном обществе. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2008. 84 с.
- Сомкин А. А. Новые формы отчуждения личности и пути их преодоления в современном демократическом обществе // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2014. № 2. С. 93–102.
- Тендрякова М. В. Первобытные возрастные инициации в круге «вечных» вопросов // Этнографическое обозрение. 2014. № 1. С. 91–101.
- Толстов С. П. К истории древнетюркской социальной терминологии // Вестник древней истории. 1938. № 1. С. 72–81.
- Фробениус Л. Детство человечества: Первобытная культура аборигенов Африки и Америки: пер. с нем. Изд. стер. М.: URSS, 2023. 376 с.
- Чернецов С. Б. Кто такие «амхара» // Этническая история Африки. Л., 1977. C. 18–45.
- Bernardi B. Age class systems: Sociological institutions and politics based on age. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 191 p.
- Cunov H. Verwandschafts-Organisationen der Australneger ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Familie. Stuttgart: I. H. W. Diek, 1894. 190 S.
- Eisenstadt S. N. From Generation to Generation. Age Groups and Social Structure. Chicago: Free Press, 1957. 357 p.
- Fortes M. Age, generation and social structure // Age & Anthropological Theory. N. Y., 1984. P. 101–165.
- Gulliver P. H. Age Differentiation // International Encyclopedia of the Social Sciences. N. Y., 1968. Vol. 1. P. 157–162.
- Malinovski В. Crime and Custom in Savage Society. London, 1940. 164 p.
- Plowitt A. W. The Native Tribes of South-East Australia. London: Macmillan, 1904. 852 p.
- Schurz H. Altersklassen and Mannerbunde. Berlin: G. Reimer, 1902. 476 S.
- Shapera I. The Khoisan People of South Africa. London: Routhledge, 1930. 471 p.
- Webster H. Primitive Secret Societies: a study in early politics and religion. 2d ed., rev. N. Y.: Octagon Books, 1968. 243 p.