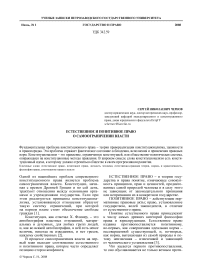Естественное и позитивное право о самоограничении власти
Автор: Чернов Сергей Николаевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Государство и право
Статья в выпуске: 1 (91), 2008 года.
Бесплатный доступ
Фундаментальная проблема конституционного права - теория правореализации конституционализма, законности и правопорядка. Эта проблема отражает фактическое состояние соблюдения, исполнения и применения правовых норм. Конституционализм - это правление, ограниченное конституцией, или общественно-политическая система, опирающаяся на конституционные методы правления. В широком смысле слова конституционализм есть конституционный идеал, к которому должно стремиться общество в своем прогрессивном развитии.
Естественное право, позитивное право, личность человека, естественно-правовая теория, мораль и нравственность, философия права, соотношение права и власти
Короткий адрес: https://sciup.org/14749390
IDR: 14749390 | УДК: 342.59
Текст научной статьи Естественное и позитивное право о самоограничении власти
Одной из важнейших проблем современного конституционного права является проблема самоограничения власти. Конституции, начиная с времен Древней Греции и по сей день, трактуют отношения между основными органами и учреждениями государства. Если при этом реализуются принципы конституционализма, установившиеся отношения образуют такую систему ограничений, при которой на первом плане стоит обеспечение свободы граждан [1].
Конституция, как отмечал X. Флинер, – это автобиография властных отношений, материальных и духовных, для любых групп людей, и, как во всякой автобиографии, в ней есть некое величие, никогда не изведанное, и нет грехов, каждому свойственных [2].
В процессе самоограничения власти на первый план выходит соотношение естественного и позитивного права, которое часто определяет позицию сторон конфликта.
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО – в теории государства и права понятие, означающее совокупность принципов, прав и ценностей, продиктованных самой природой человека и в силу этого не зависящих от законодательного признания или непризнания их в конкретном государстве.
ПОЗИТИВНОЕ ПРАВО – действующие нормативные правовые акты; право, установленное государством, волей законодателя, в отличие от естественного права.
Понятие естественного права принадлежит к числу самых древних категорий философии права и юриспруденции. Естественное право издавна противопоставляется позитивному, во-первых, как совершенная идеальная норма – несовершенной существующей, и, во-вторых, как норма, вытекающая из самой природы и потому неизменная – изменчивой и зависящей от человеческого установления [3].
Что касается первого противопоставления, то оно обуславливается не только вечным проти-
воречием между идеалом и действительностью, но также и некоторыми особенностями позитивного права, которые обостряют и подчеркивают это противоречие.
Позитивные законы рассчитываются обыкновенно на долговременное применение. Как нормы общие и твердые, они не могут изменяться с каждым изменением отношений, для которых они созданы, а между тем жизнь уходит вперед и требует для себя новых определений. Даже самые лучшие законы редко удовлетворяют всех, разнообразие общественных интересов не может найти для себя полного примирения в законодательстве. Отсюда протесты против положительного права, облекаемые в форму требований естественного права.
Постановления позитивного права объявляются изменяющимися и произвольными; естественное право ставится над ними, как некая высшая норма, черпающая свою силу в требованиях природы. Предположению о существовании права, вытекающего из природы, способствовало и то наблюдение, что среди определений каждого права есть известные положения, как будто бы не зависящие от произвола людей и предустановленные самой природой. Это наблюдение заставляло в самом действующем праве открывать следы права естественного и различать в юридических установлениях неизменные и естественные определения от изменчивых и произвольных.
Осознание норм естественного права приходит в процессе развития личности человека. Естественное право – это одна из основ позитивного права и фактор, который регулирует социальные отношения, внедряясь в юридическую практику.
Естественное право с постоянной настойчивостью пробивает себе дорогу в науке, философии и практике социально-политической и правовой жизни.
Естественно-правовая теория – одна из самых действенных теорий, когда-либо существовавших в политической и правовой мысли. Великие буржуазные революции XVII–XVIII столетий в Западной Европе и Америке во многом базировались на представлениях о естественном праве, которые получили свое отражение в ряде конституций, в различных политических декларациях (Декларация прав и свобод человека, Конституция США и др.). Эти исторические документы опирались на идею естественного права.
Таким образом, издавна концепция естественного права имела двоякий состав: она покоилась на практическом требовании более совершенного права и на теоретическом наблюдении естественной необходимости известных право-положений. Эти два элемента могли поддерживать друг друга, но не могли быть сведены один к другому: в первом случае естественное право ставится над позитивным, во втором оно является лишь известной частью позитивного права.
В историческом развитии естественно-правовой доктрины можно постоянно наблюдать эту двойственность концепции.
Слабым местом в теории естественного права является то, что, несмотря на многие столетия существования этой идеи, до сих пор нет ясности в том, что же такое естественное право, о чем именно мы говорим, когда ссылаемся на эту очевидную категорию [4].
Греческая философия еще в досократиче-ский период знала противопоставление естественного права и позитивного.
Софисты, в противоположность древнегреческому воззрению на верховное значение законов, утверждали, что все законы, как и сама справедливость, обязаны своим происхождением человеческому установлению: следуя своим случайным взглядам, люди беспрестанно изменяют свои законы, которые носят поэтому печать условности и относительности. Из этого воззрения само собой вытекало известное, хотя и чисто отрицательное, представление о естественном праве, а вместе с тем и критическое отношение к положительному праву.
Некоторые софисты, в связи со свойственным им индивидуализмом, высказывали мнение, что законы должны служить охране личной свободы, которая только и может считаться сообразной с природой. Здесь намечалось уже известное представление о естественном праве.
Еще яснее это представление выразилось у Сократа, который говорил, что существуют неписаные божественные законы, с которыми человеческие законы должны сообразоваться. Для понимания этих законов нужно знание, которое и должно лежать в основе государственного управления.
Платон развил эту мысль в своем «Государстве», начертав естественное, сообразное с божественной справедливостью государственное устройство. Действительные формы, встречающиеся обыкновенно в жизни, он считал отклонениями от истинного идеала. Это противопоставление идеальной формы развращенным, встречающееся затем и у Аристотеля, является своеобразным выражением того же контраста между идеалом и действительностью, которое лежит в основе различения естественного и положительного права. Аристотель использует термины идеальной нормы, хотя, употребляя эти термины, он имеет в виду не идеальные нормы, а те «естественные» определения, которые существуют у различных народов как бы в силу необходимости и независимо от человеческого мнения. Подобное представление о естественном праве воспроизводится затем у стоиков, от которых оно переходит к римским юристам [5].
Естественное право римских юристов представляет собой также ту часть действующего права, которая, будучи обусловлена самой природой, отличается необходимостью и всеобщностью распространения.
Существует ряд вариантов, ответвлений естественно-правовой идеологии. Условно можно выделить три основных направления в рамках этой теории.
Первое – религиозное – связано с католической философией. Наиболее ярким представителем этого направления являлся Фома Аквинский, для которого естественное право – не что иное, как отражение божественной воли в человеческом разуме.
У Фомы Аквинского также можно видеть отражение римских воззрений; в подробностях его учения сказывается, кроме того, влияние Аристотеля. Наконец, ко всему этому присоединяются средневековые богословские элементы.
Основу естественного права Фома Аквинский видит в законе Божественном, который получает у него значение универсального закона вселенной [6].
Фома Аквинский создает при этом довольно сложное разделение, различая закон Божественный и вечный, естественный и человеческий. Он подчеркивает идеальное значение естественного права как нормы, определяющей достоинство существующих установлений. Человеческий закон имеет силу лишь постольку, поскольку он согласен с естественным законом. Законы несправедливые необязательны для подданных, хотя их не запрещается исполнять; но если эти законы не согласны с Божественными установлениями, то они ни в каком случае не должны быть исполняемы, так как Богу следует повиноваться более, чем человеку.
Вообще, в средние века мы можем проследить в зародыше все основные черты позднейшей доктрины естественного права. Если многие из этих черт встречаются и в древности, то лишь в средние века они получают более отчетливое выражение под влиянием того практического значения, которое получила в это время идея естественного права.
Таковы в особенности знаменательные теории первобытного договора и народного суверенитета. Возникнув помимо естественноправовой доктрины и не составляя ее необходимого предположения – так как утверждение высшего критерия, стоящего над положительным законом, возможно и независимо от этих теорий – они вскоре соединились в одно стройное целое с естественно-правовой идеей, вследствие того внутреннего сродства, которое их сближало. Обе они как нельзя более соответствовали основному стремлению естественного права – поставить над властью некоторые высшие инстанции, с которыми она должна сообразоваться. Первобытный договор играл при этом роль юридического основания для притязаний подданных по отношению к верховной власти; он предопределял ее деятельность, ставил для нее известные границы. Утверждение неотчуждаемого народного суверенитета было логическим дополнением идеи первобытного договора и дальнейшим формулированием юридической зависимости правительства от общества; при помощи этой идеи установлялось для народа постоянное право контроля и верховенства над правящей властью.
Первобытный договор считался тем моментом, в силу которого люди от естественного состояния переходят к го сударственному; но, возникнув по определению воли народной, государство должно навсегда остаться подчиненным этой воле.
Большое влияние на средневековую теорию оказал Гуго Гроций, который в своем знаменитом трактате «О праве войны и мира» обеспечил ей широкое распространение в новой философии права.
Гуго Гроций не был «отцом естественного права», как его иногда называют. Его значение состоит в том, что он положил начало обособлению естественного права от богословия и ввел в эту область рационалистическую методу [7].
В качестве идеала, создаваемого ввиду несовершенств существующего порядка, естественное право могло служить для самых различных стремлений. Пример Гоббса показывает, что естественно-правовым методом можно было пользоваться и для оправдания абсолютизма.
Эта индивидуалистическая тенденция позднейшего естественного права в особенности была подчеркнута присоединением к нему теорий первобытного договора и народного суверенитета, имевших ясно выраженный индивидуалистический характер.
Первобытный договор был не чем иным, как соглашением личности с государством; народный суверенитет представлял собой объединение личных воль в одно целое, противополагавшееся государственной власти. Не случайным является то обстоятельство, что индивидуалистические стремления естественного права развились с особенной силой в новое время, когда государственное начало получило преобладающее значение и в борьбе с разрозненностью общественных сил нередко склонялось к отрицанию их самостоятельности.
Протестантское движение, со свойственным ему стремлением к утверждению свободы совести и мысли, дало новый толчок к развитию естественного права в индивидуалистическом направлении. Именно на этой почве впервые формулируется практическое требование неотчуждаемых прав личности. Каждый раз, когда го сударство угрожало личной свободе, естественно-правовая доктрина выступала с напоминанием об этих неотчуждаемых правах, о договоре, заключенном личностью с государством, о народном суверенитете, которому должно принадлежать решающее значение. Естественное право отражает ту роль, которая принадлежала личному началу в первоначальных политических соединениях, и служит выражением того самостоятельного значения личности, которое должно оставаться ее неприкосновенным достоянием при всяких формах политического устройства. В этом виде естественное право является более чем требованием лучшего законодательства: оно представляет, вместе с тем, протест личности против государственного абсолютизма [8].
Философский подход Гуго Гроция воспроизводится затем в немецких учениях XVII и XVIII столетий. Видными представителями этого направления в Германии являются Пуффендорф и Томазий, Лейбниц и Вольф.
Одновременно с этим естественное право развивается и в Англии. Мильтон, Сидней и Локк являются наиболее талантливыми и видными его теоретиками на английской почве.
Английская школа стояла ближе к практическим событиям времени, к той политической борьбе, в которой крепла английская политическая свобода. Вследствие этого английские учения получили гораздо более радикальный характер.
Известные практические тенденции не были чужды и немецким писателям: рационалистический метод и индивидуадистические стремления естественного права явились и в Германии освободительными и прогрессивными элементами в борьбе с остатками средневекового гнета над мыслью и совестью [9].
Однако эти стремления не имели здесь такой резкой определенности, как в Англии и впоследствии во Франции. Наряду с индивидуалистическими утверждениями мы встречаем в них иногда то остатки средневековых католических взглядов (например, у Лейбница), то систему нравственного деспотизма (например, у Вольфа). Принцип осуществления в жизни нравственного закона получает здесь преобладание над идеалом политической свободы. Другая отличительная черта немецкого естественного права заключается в большем значении чисто теоретического элемента - стремления к систематизации данного материала. У последователей Вольфа это теоретическое стремление совершенно вытесняет определенные практические тенденции. Естественное право вырождается в систему рационалистического обоснования и построения позитивного [10].
В учебники естественного права переносятся римские положения, которые объявляются вечными и необходимыми требованиями разума. Так создалась та система плоского и поверхностного догматизма, которая одинаково грешила и против истории, и против философии, и против юриспруденции, и которая еще в XVIII веке вызвала вполне законную реакцию со стороны представителей исторического направления. Однако и в пределах естественно-правовой школы со времени Канта совершается поворот к более плодотворному и живому направлению. Кант находился в этом отношении под влиянием Руссо, который должен быть признан самым крупным представителем естественного права в XVIII веке. Руссо придал естественноправовому направлению тот характер законченного радикализма, с которым оно вступает в эпоху революции. Логически развивая требования индивидуализма, он с большей последовательностью, чем это делалось ранее, защищает идею неотчуждаемого народного суверенитета. Он требует, чтобы и в государстве каждый человек повиновался только своей собственной воле и сохранял свою свободу. Единственным средством для этого он считает участие всех граждан в общих решениях и установление неотчуждаемого контроля со стороны народа над действиями власти [11].
Кант воспринял идеи Руссо, но сочетал их с основами собственной философии и придал им новый характер. Прирожденные права, о которых говорили Руссо и его предшественники, имели своим высшим критерием индивидуальную свободу, являвшуюся вместе с тем и высшей целью государственного союза; но где искать границы и цели самой свободы – это оставалось недостаточно определенным.
Свобода может проявляться одинаково как в самоутверждении, так и в самоограничении. Гоббс имел известные основания к тому, чтобы выводить безусловное подчинение лица государству из свободного соглашения частных воль. Но таким образом подрывалась сама основа естественного права как начала, стоящего над произволом власти. Поэтому истинные представители естественного права всегда стремились найти начала, которые могли бы определить правильное употребление свободы, согласное с ее собственным существом, и внести в понятие естественного права известный объективный элемент.
Из английских мыслителей в особенности у Локка замечается стремление определить неизменные и согласные со свободой начала государственной жизни. Кант представляет в этом отношении тот интерес, что объективное направление сочетается у него с резко выраженным индивидуализмом. Признавая, вместе с Руссо, теорию прирожденной свободы и неотчуждаемого суверенитета, Кант выводит ее из требований разума, в законах которого он находит объективные устои для естественного права. Первобытный договор понимается им не как действительное соглашение воль, свободных в своих решениях, а как некоторая объективная и неизменная идея, определяющая собой правомерное государственное устройство. Само понятие всеобщей воли народа иногда заменяется у Канта понятием априорной всеобщей воли, т. е. сводится к некоторому отвлеченному представлению разума [12].
Дальнейшее развитие этому объективному направлению дал Гегель. Объективное понимание права вытекало из всего его философского миросозерцания. Гегель превосходно выразил ту потребность, которая вызывает естественноправовые построения. «Законы права установ- ляются людьми; внутренний голос человека может или соглашаться с ними, или вступать в противоречие. Человек не останавливается на существующем, но заявляет свои притязания на оценку права; он может подчиняться силе внешнего авторитета, но совершенно иначе, чем необходимым законам природы. В природе высшая истина состоит в том, что закон вообще существует; законы права, напротив, имеют значение не потому, что они существуют, а потому, что они соответствуют нашему собственному критерию права» [13].
Признавая потребность нашего сознания в оценке существующего, Гегель стремится найти опору для этой оценки в самом существующем. Отправляясь от мысли, что законы разума суть вместе и законы развития сущего, что все истинное обладает свойством претворяться в действительное, Гегель отвергает те абстрактные и субъективные построения естественного права, которые стремятся воссоздать нравственный мир из собственного сердца и чувства. Философия есть «постижение существующего и действительного», а не построение чего-то неосуществленного. Государство, по Гегелю, не продукт соглашения отдельных лиц, а безусловное и самоцельное единство. Свобода достигает в этом единстве своего высшего права, но, с другой стороны, в подчинении государству заключается и ее высшая обязанность. Руссо был прав, разъясняет Гегель, указав границы государства в воле; но он понимал волю не со стороны ее всеобщности и разумности, а со стороны ее временного и случайного определения в сознательном соглашении отдельных лиц. Государство есть организм свободы, но этот организм есть вместе с тем осуществление вечной объективной идеи [14].
Левые гегельянцы вскоре показали, какие выводы можно было сделать из этой системы. «Для диалектической философии нет ничего раз навсегда установленного, безусловного, святого», – так истолковали систему Гегеля Энгельс и Маркс.
Гегель проводил различие между законами природы и законами права; Савиньи сделал попытку отвергнуть это различие. Право развивается, утверждает он, подобно растению – путем непроизвольного и органического процесса образования. Оно теряет свои устаревшие части и приобретает новые, как дерево теряет и приобретает свои листья. Понятно, что при подобном взгляде критика положительного права является совершенно излишней; но собственный пример Савиньи показывает, насколько трудно было оставаться верным этому взгляду. Развивая свои мысли, он должен был допустить возможность намеренного, следовательно личного, вмешательства в образование права [15].
Продолжатель исторической школы, Иеринг решительно возвратился к гегельянской точке зрения. Теория непроизвольного самораскрытия народного духа заменяется у него учением о сложном процессе правообразования, который сопровождается приложением личных усилий, столкновением интересов и борьбой страстей. Не безусловное уважение к существующему, а критика прошлого и поиск лучших устоев – таков основной практический вывод Иеринга, все более и более приобретающий право гражданства в науке [16].
Историческая точка зрения отвергла прежние учения о происхождении права из случая и произвола; но центр естественно-правовой доктрины заключался вовсе не в таком взгляде на происхождение права, а в вопросе о возможности нравственного суда над правом. Понимание естественного права как некоторой критической инстанции, оценивающей существующее и подготавливающей будущее, приводит в наше время к его реабилитации [17].
Вплоть до начала XIX века авторитет права в Европе был чрезвычайно высок. Господствовавшая в философии права естественно-правовая теория тесно связывала его со свободой, справедливостью, нравственностью. Однако воплощение принципов естественного права в действующем законодательстве не привело автоматически к их реализации в социальной действительности, что заставило усомниться в возможности такой реализации и в самой идее естественного права [18].
Все чаще и чаще в современной литературе слышатся голоса в пользу старой доктрины. Типичным представителем этого поворота к естественному праву является Р. Штаммлер. Он указывает, что содержание права никогда не может обладать общезначимым характером [19]. Это содержание нельзя вывести из человеческой природы, ибо все рассуждения о ней сводятся в конечном счете к ссылке на присущий каждому эгоизм [20].
В наши дни не может быть и речи ни о произвольном возникновении права, ни о неизменности естественно-правовых норм, ни об их практическом первенстве или равенстве с нормами позитивного права. Естественное право само создается из закономерного процесса истории, развивается вместе с этим процессом и во всяком случае представляет собой не настоящее право, а только идеальное построение будущего и критическую оценку существующего права.
Среди российских ученых наиболее удачный подход, с точки зрения теории естественного права, предложил дореволюционный мыслитель П. И. Новгородцев. Согласно Новгородцеву, естественное право есть не что иное, как феномен правосознания – идеальный образ желаемого, совершенного права [21]. То, о чем говорит Новгородцев как о естественном праве, скорее всего правовой идеал, а не естественное право.
Однако подлинное возрождение юстнатура-лизма происходит в первые десятилетия после Второй мировой войны. И обусловлено оно бы- ло не столько какими-либо прорывными достижениями в постижении сущности права, сколько дискредитацией юридического позитивизма практикой тоталитарных режимов [22].
«Возрождающееся» естественное право выступало как объединяющее начало и общая платформа для всех противников юридического позитивизма, привлекая к себе мыслителей самой различной направленности [23].
Требование непосредственного применения естественного права, например, судом снимается. В правовом государстве единственной основой правопорядка должен быть закон. Естественное право «не должно служить идеальной заплатой на дырявом материальном плаще положительного права» [24]. Это в теории, а в действительности двусмысленность в подходе к позитивному праву сохраняется. Она выражается фразой Э. Цахера: «Естественное право – это еще не право, а право без естественного права – это уже не право» [25].
Естественное право имеет противоречивые критерии. Английский мыслитель И. Бентам перечисляет такие безусловные, по мнению его современников, основания естественного права, как «нравственное чувство», «здравый смысл», «правила справедливости», «закон природы», «закон разума», «сообразность вещей», «естественная справедливость», «добрый порядок» и т. п. [26]
Конфликт между свободой и равенством удачно показал еще А. де Токвиль, который считал, что такие противоречия не позволяют рассматривать современные естественно-правовые теории как взаимодополняющие, они являются часто взаимоисключающими [27].
Сегодня в качестве таких критериев чаще всего предлагаются мораль и нравственность. Однако христианская мораль выше справедливости ставит прощение и милосердие. Требование сохранения человеческого достоинства, считает Е. А. Матвиенко, вполне может прийти в противоречие с требованиями удовлетворения базовых (по природе своей биологических) потребностей индивида [28].
Даже в пределах одного общества достичь согласия относительно смысла предлагаемых критериев «естественности» права невозможно; каждый класс создает свою мерку справедливости, и свое право, и свои представления о праве [29].
Последовательно внедряется в общественное сознание превосходство естественного права над правом позитивным. Особенно негативно это отношение сказывается там, где отсутствуют правовые традиции подчинения праву и законы рассматриваются как препятствия для реализации цели.
Таким образом, с помощью естественноправовой теории игнорируется буква закона в пользу его произвольно толкуемого «духа», оправдываются противоправные действия ссылками на «общественную пользу» или необходимость «укрепления вертикали власти» [30].
Естественно-правовая теория ведет к завышенным ожиданиям. В новой России начала 90-х годов XX века все ожидали справедливого правового государства, в котором все подчиняются естественному праву и справедливости, ждали равенства, а получили правовой беспредел. Можно вспомнить мнения «новых демократов» 90-х годов из партии «Выбор России», которые считали, что стоит раздать промышленные предприятия в частные руки, и собственники станут заботиться о своих доходах, а значит о производстве и работниках, и наступит торжество справедливости. Можно вспомнить и объединение двух Германий в 80-е годы XX века. Разочарование в правовых реалиях привело к обострению социальных проблем в германском обществе, что не изжито и сегодня.
Разбиваясь о правовые реалии, неоправданные ожидания приводят к жестокому разочарованию и правовому нигилизму.
В то же время можно согласиться с Ю. Ю. Ветютневым: «признать естественные или какие угодно другие права, способности, качества, свойства человеческой личности социально полезными, приемлемыми или, наоборот, вредными, недопустимыми, может власть – те лица, которые обладают соответствующими ресурсами влияния на общество, чтобы фактически навязать ему свое решение по этому вопросу» [31].
В отечественной и зарубежной литературе в течение многих столетий накапливался огромный опыт исследования позитивного права, что нашло отражение в многочисленной научной литературе [32].
Понятия функций позитивного права формулируются по-разному. «Почти вековой опыт активного исследования понятия «функция права» на сегодняшний день не позволяет констатировать наличие единого взгляда на эту проблему» [33].
По этому поводу высказываются разные мнения. Наиболее распространенными, по крайней мере в современной литературе, можно назвать три. Одни исследователи под функциями позитивного права понимают определенные (чаще всего основные) направления воздействия права на общественные отношения или поведение людей [34].
Другие считают, что функции позитивного права – это основные направления регулирующего воздействия права на общественные отношения [35].
Наконец, третьи исходят из того, что под функциями позитивного права следует понимать взятые в единстве социальное назначение и вытекающие из этого назначения направления воздействия права на общественные отношения [36].
Если сопоставить изложенные позиции, то можно заметить, что одни под функциями позитивного права понимают направления различного воздействия права на общественные отношения, другие же - только регулирующего, т. е. первые трактуют функции позитивного права широко, вторые - узко. К узкой трактовке функций позитивного права тяготеет и позиция Т. Н. Радько, которая отмечена выше в качестве третьей точки зрения. Рассматривая функции права как взятые в единстве социальное назначение и вытекающие из этого назначения направления воздействия права на общественные отношения, он вольно или невольно функции позитивного права сводит к регулирующему воздействию права, поскольку назначение позитивного права состоит в регулировании общественных отношений. В то же время, рассматривая классификацию функций права, Т. Н. Радько исходит, по сути дела, из более широкого понимания функций позитивного права [37].
Для того чтобы определиться в вопросе о понятии функций позитивного права, обратим внимание на те моменты, которые являются, на наш взгляд, более предпочтительными. Во-первых, под функциями права многие исследователи понимают определенные направления воздействия права на общественные отношения или поведение людей, что представляется вполне обоснованным. Функции права нельзя отождествлять с самим воздействием права на общественные отношения или поведение людей, поскольку такое воздействие может быть самым разнообразным. Оно может быть непосредственным или опосредствованным, эффективным или неэффективным и т. д. Когда говорят о функциях права, то имеют в виду только непосредственное воздействие права на общественные отношения или поведение людей и каждую функцию права рассматривают как определенное направление, линию такого воздействия.
Определяя функции права как направления его воздействия на общественные отношения или поведение людей, многие исследователи предпочитают к функциям права относить только основные направления воздействия права, полагая, что не всякое направление воздействия права на общественные отношения можно считать функцией права. Думается, однако, что такое ограничение едва ли оправданно. Если под функциями права понимать только основные направления его воздействия, то чем являются неосновные направления? Или таковых у права не существует? Тогда на каком основании функции права довольно часто подразделяют на основные и неосновные? Более правильно к функциям права относить как основные, так и неосновные направления его воздействия на общественные отношения и под функциями позитивного права понимать определенные направления его воздействия на общественные отношения или поведение людей.
Совершенно оправданным следует признать увязывание функций права с его социальным назначением и ролью в общественной жизни. В одном из смысловых значений слово «функция» – это назначение, роль чего-нибудь [38].
Однако в юриспруденции функции права, как правило, не отождествляют с назначением и ролью права. Большинство исследователей рассматривают функции права как направления его воздействия на общественные отношения, выражающие назначение права, его роль в обществе. То есть функции права – это не само назначение или роль права, а определенные выразители, показатели назначения и роли права.
Отмечая этот момент, хотелось бы обратить внимание на то, что иногда социальное назначение права и его роль отожде ствляют. Этого не следует делать. Назначение права говорит о том, для чего создается и суще ствует право, в чем его предназначение. В назначении выражается главная роль, которую играет в общественной жизни право. Эта главная роль состоит в том, что право есть регулятор общественных отношений. Оно создается для этой цели, в этом его предназначение. В то же время право, будучи регулятором общественных отношений, способно выполнять и выполняет некоторые другие ролевые функции. Оно способно быть источником информации – информации о правовом регулировании тех или иных общественных отношений, способно оценивать поведение людей в данной системе отношений, способно быть средством воспитательного воздействия и т. д. Иначе говоря, у права помимо регулирующего воздействия, безусловно являющегося доминирующим, существуют и так называемые «побочные эффекты». Поэтому сводить функции позитивного права только к его регулирующему воздействию представляется не совсем верным.
Каким же образом все-таки могут быть классифицированы функции позитивного права? Как представляется, для этого необходимо использовать несколько оснований. Прежде всего, это основания, которые используются при классификации функций государства. Известно, что государство осуществляет свои функции в правовых формах и с использованием правовых средств. Поэтому позитивное право, будучи тесно связанным с государством, так или иначе дублирует его функции. В этой связи функции позитивного права можно классифицировать с учетом значимости, сферы распространения, продолжительности осуществления и сфер общественной жизни [39].
С учетом значимости функции права следует подразделить на основные и неосновные. К основным функциям должны быть отнесены все те функции, которые позитивное право выполняет как регулятор общественных отношений и которые характеризуют его социальное назначение. Все остальные функции нужно отнести к неосновным.
С учетом сферы распространения функции позитивного права могут быть подразделены на внутренние и внешние. На первый взгляд такая классификация может показаться неприем- лемой, по скольку позитивное право как продукт правотворческой деятельности государства является внутренним регулятором и регулирует общественные отношения в пределах страны. В то же время общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры зачастую входят в состав национальных правовых систем, что позволяет позитивному праву, имеющему в своей структуре такие элементы, регулировать отношения не только внутри страны, но и за ее пределами [40].
В зависимости от сфер общественной жизни функции позитивного права представляется возможным подразделить на экономические, политические, идеологические, социальные и экологические.
Такая классификация допустима, поскольку позитивное право осуществляет регулирование общественных отношений и в экономической, и в политической, и в духовной, и в социальной, и в экологической сферах общественной жизни, выполняя при этом самые разнообразные функции.
Рассмотренные классификации позволяют в определенной мере охарактеризовать функции позитивного права, но они не раскрывают главного – социальной роли и назначения права. Поэтому их нужно дополнить с учетом названных оснований.
Исходя из социальной роли позитивного права, представляется возможным выделить его регулятивную, оценочную, воспитательную, информационную и трансляционную функции.
Регулятивная функция выражается в том, что право регулирует, упорядочивает общественные отношения.
Оценочная функция проявляется в том, что позитивное право, регулируя общественные отношения, одновременно оценивает поведение их участников в качестве правомерного или неправомерного, желательного или нежелательного для государства и общества.
Воспитательная функция характеризуется тем, что право не только регулирует общественные отношения, но и выступает в качестве эталона, образца поведения, воспитывая у людей привычку совершать одни действия и воздерживаться от других.
Информационная функция вытекает из такого свойства позитивного права, как его формальная определенность. Правовые нормы, будучи закрепленными в различных официальных документах, приобретают письменную форму и становятся источниками информации о том, как осуществляется правовое регулирование тех или иных общественных отношений.
Суть трансляционной функции состоит в том, что позитивное право, накапливая в своем содержании социальный опыт, культуру человеческого общения, достижения в области правового регулирования, передает, транслирует все это как уча- стникам существующих общественных отношений, так и будущим поколениям людей.
Практически всем социальным нормам присуща регулятивная функция, все они так или иначе оценивают поведение людей, оказывают воспитательное и информационное воздействие, осуществляют передачу положительного социального опыта. Вместе с тем выделение данных функций позитивного права позволяет наглядно продемонстрировать различные грани его социальной роли.
Функции позитивного права с учетом его назначения (собственно правовые, собственно юридические функции) обычно подразделяют, как об этом было сказано выше, на регулятивную статическую, регулятивную динамическую и охранительную.
Центральное значение среди правовых проблем, связанных с философией права, принадлежит группе вопросов о соотношении права и власти.
Существует ряд теорий, согласно которым право – это фактически то же, что власть. Но подобная интерпретация представляется не совсем верной.
Нельзя смешивать или путать право с властью. Власть является необходимым условием права, без которого его существование не представляется возможным [41].
Даже в обстановке, когда правовые положения, нормы и принципы прямо отражают условия жизнедеятельности людей, соответствуют их интересам и поддерживаются обычаем, религиозным верованием, необходимы обеспечивающие и страховочные механизмы, которые гарантировали бы в любых ситуациях строгость и неукоснительность действия права.
Основу таких механизмов составляет не что иное, как сила, которая может быть применена лишь властью. Здесь и далее понятием «власть» охватываются не все виды господства, а только господство в области организации общественных отношений и управления, то есть система подчинения, при которой воля одних лиц (властвующих) является императивно обязательной для других лиц (подвластных).
С наступлением эры цивилизации с целью упорядочения резко усложнившихся общественных отношений потребовались более мощные институты регуляции. И именно тогда, с появлением государства и письменности, стало формироваться позитивное право – право, выраженное в юридических источниках и поддерживаемое предельно могучей властью – властью политической, государственной. Такая власть концентрируется в аппарате, обладающем инструментами навязывания воли властвующих, прежде всего – инструментами принуждения, а также институтами, способными придать воле властвующих общеобязательный характер. Наиболее пригодными для таких целей, наряду с церковными установлениями, оказались законы, учреждения юрисдикции, иные институты позитивного права, которые были объявлены «элементами государственности» [42].
Мировой опыт существования и функционирования государства и права говорит о том, что в праве выражается, прежде всего, воля властвующих. Вместе с тем она, опасаясь социальных взрывов и утраты своего привилегированного положения, порой вынуждена считаться с волей и интересами подвластных.
Воля и интересы властвующих групп, слоев или классов, однако, не являются безграничными. Их эгоизм, как справедливо подметил Г. Шерше-невич, должен подсказывать им «благоразумие и умеренность в правовом творчестве». Помимо использования силовых средств, они могут охранять свои интересы также с помощью права, «тесно сплетая» свои интересы с интересами подвластных, «по возможности, не доводя последних до сознания противоположности» [43].
Власть может быть разумной, естественной, легитимной, законной, правовой, моральной, нравственной и т. д., но она может быть и неразумной, противоестественной, нелегитимной, беззаконной, неправовой, аморальной и безнравственной.
Законная власть, то есть власть дозволенная или предписанная позитивным правом, – это уже субъективное право влиять на поведение других людей. Содержанием такого права вполне может быть произвол. Но если осуществление власти регламентировано, то власть уже не является произвольной, но может являться моральной (если она регламентирована моральным чувством, совестью носителя власти), традиционной (если она регламентирована обычаем), правовой (если регламентирована правом).
Тотальная власть – это возможность влиять не только на все поведение, но и на всю целиком активность другого человека. Чем детальнее право регламентирует проявления человеческой активности, тем оно тоталитарнее [44].
В соответствии с религиозной формой власти люди добровольно подчиняются ей, поскольку усматривают в этом ясный смысл, диктуемый той идеей, которой они одержимы [45].
Нравственная власть является, по мнению Ю. В. Тихонравова, властью жертвенной. Поскольку нравственно в определенных ситуациях жертвовать собственными интересами ради интересов других людей, нравственная власть превращается в самоотверженное служение, когда правитель жертвует собой ради тех, кем он правит (например, последний царь Афин Кодр).
Если посмотреть на проблему с другой стороны, то несложно заметить, что право является основным и порой единственным препятствием на пути самовозрастания и ожесточения власти. Объяснить это можно двумя основными причинами.
Во-первых, законы, юрисдикционная, правосудная деятельность, крайне необходимые и незаменимые институты, при помощи которых власть оказывается способной с наибольшим эффектом проводить свою политику, имеют по своей сути иное, «свое» назначение. Право призвано утверждать начала справедливости, гарантированной свободы поведения, защищать интересы человека, что не всегда находится в согласии с притязаниями и устремлениями власти.
Во-вторых, право относится к числу внешних социальных факторов, которые благодаря своим свойствам способны свести власть к социально оправданным величинам, снять крайние, социально опасные, разрушительные проявления власти.
Из сказанного можно сделать вывод, что право и власть столь взаимосвязаны и взаимообусловлены, что ни противопоставлять, ни пытаться выяснить, что над чем доминирует, нет смысла [46].
В конечном итоге решающую роль играют природа и характер существующего в данном обществе строя, культура политического режима и особенно – «величина» власти, уровень и объем ее концентрации в функционирующих государственных учреждениях и институтах.
Однако строить рассуждения о правовом го сударстве невозможно с позиции преобладающего в России легистского правопонима-ния. Позитивисты отрицают естественные и неотчуждаемые права человека и говорят только о дарованных основных правах и свободах граждан. Поэтому для них понятие правового государства оказывается бессмысленным: власть, дарующая права, не может быть ограничена этими правами [47].
Российские авторы в основном придерживаются социологического понятия государства как силы, господства, наиболее мощной организации власти у данного народа на данной территории, например, организации классового насилия. В таком понимании право есть приказы власти, законы.
Подход к праву, сводящий право вообще к позитивному праву, т. е. отождествляющий право и закон, характерен для юридической догматики и представлен в различных вариантах юридического позитивизма и легизма (от lex – закон). Здесь, следовательно, истина о праве исчерпывается волей законодателя, мнением и позицией официально-властного установителя позитивного права.
Противоположный тип правопонимания – юридический – обосновывает необходимость различения права и закона. Такое теоретическое различение права и закона не только терминологически, но и понятийно, по своему смыслу выступает как общая теория для всех остальных частных случаев подобного различения. Это различие тем самым позволяет понять и выразить момент общности и единства в познавательной ориентированности, в смысловой структуре и предмете различных прошлых и современных философско-правовых учений [48].
Прошлые и современные философские учения о праве включают в себя тот или иной вариант различения права и закона, что собственно и определяет философско-правовой профиль соответствующего подхода.
Речь при этом идет о дифференциации формулировок, в частности, о различении права по природе и права по человеческому установлению, права естественного и права волеустановленного, справедливости и закона, естественного права и человеческого права, естественного права и позитивного права, разумного права и позитивного права, философского права и позитивного права, правильного права и позитивного права и т. д. [49].
История права – это история прогрессирующей эволюции содержания, объема, масштаба и меры формального (правового) равенства при сохранении самого этого принципа как принципа любой системы права, права вообще. Разным этапам исторического развития свободы и права в человеческих отношениях присущи свой мас- штаб и своя мера свободы, свой круг субъектов и отношений свободы и права, словом, свое содержание принципа формального (правового) равенства [50].
Либертарное правопонимание, то есть объяснение права через понятие свободы, отражает с сегодняшней точки зрения наиболее развитые формы государственности и права, сложившиеся в Западной Европе и Северной Америке. Вообще, понятия «правовое государство» и «господство права» имеют отношение лишь к европейской правовой культуре. В современной России эта концепция сформулирована главным образом в многочисленных работах В. С. Нерсесян-ца. Эта концепция опирается на теоретическое различение права и закона, а также идеологию естественных прав и свобод человека. Причем, что особенно важно, непротиворечивую концепцию правового государства, на наш взгляд, можно сформулировать только с такой теоретикопознавательной позиции [51].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ПРИМЕЧАНИЯ
-
1. См.: Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма): Пер. с венгерского. М.: Юрист, 1990. С. 12.
-
2. См.: Finer H. Theory and Practice of Modern Government. Westport, 1970 (1949) reprint. P. 12.
-
3. Естественное право // Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
-
4. Ветютнев Ю . Ю . Естественное право как научная и идеологическая конструкция // Новая правовая мысль. 2006. № 2. С. 22.
-
5. Чичерин Б . Н . Политические мыслители древнего и нового Mиpa. M., 1897. С. 35.
-
6. Чичерин Б . Н . История политических учений. М., 1869–77. С. 46.
-
7. Естественное право // Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
-
8. Там же.
-
9. B ergb ohm K . M . "Jurisprudenz und Rechtsphilosophie". Т. I. Лпц., 1892.
-
10. Новгородцев П . И . Право естественное // Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб., 1898. Т. XXIVА. С. 885.
-
11. Новгородцев П . И . Историческая школа юристов. СПб. 1999. С. 13–16, 138, 144 и др.
-
12. Там же.
-
13. Естественное право // Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
-
14. Там же.
-
15. Новгородцев П . И . Историческая школа юристов. СПб. 1999. С. 13–16, 138, 144 и др.
-
16. Байтин М. И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух веков). М., 2005. С. 31, 44.
-
17. Естественное право // Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
-
18. Матвиенко Е . А . Возрождение естественно-правовой теории: причины и пределы // Новая правовая мысль. 2006. № 2. С. 24.
-
19. Штаммлер Р . Хозяйство и право: В 2 т. СПб., 1907. Т. 1. С. 189.
-
20. Там же. С. 190, 192.
-
21. Новгородцев П . И . Историческая школа юристов. СПб., 1999. С. 13–16, 138, 144 и др.
-
22. Матвиенко Е . А . Возрождение естественно-правовой теории: причины и пределы // Новая правовая мысль. 2006. № 2. С. 25.
-
23. Нерсесянц В . С . Философия права. М., 2001. С. 608.
-
24. Гассен В . М . Возрождение естественного права. СПб., 1902. С.11.
-
25. Проблемы буржуазной теории права. Вып. 3. М., 1984. С. 57.
-
26. Бентам И . Введение в основания нравственности и законодательства. М., 1998. С. 23.
-
27. Токвиль А . Демократия в Америке. М., 1994. С. 371–373.
-
28. Матвиенко Е . А . Возрождение естественно-правовой теории: причины и пределы // Новая правовая мысль. 2006. № 2. С. 26.
-
29. Рейснер М . А . Право и революция. Пг., 1917. С. 19.
-
30. Матвиенко Е . А . Возрождение естественно-правовой теории: причины и пределы // Новая правовая мысль. 2006. № 2. С. 27.
-
31. Ветютнев Ю . Ю . Естественное право как научная и идеологическая конструкция // Новая правовая мысль. 2006. № 2. С. 22.
-
32. Иеринг Р . Дух римского права на различных ступенях его развития. Ч.1. СПб., 1875 С. 234; Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб., 1908 С. 346; Шершеневич Г. Ф. Общая теория права: учебное пособие (по изд. 1910– 1912 гг.) Вып.1. М, 1995. Т. 1. С. 304; Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999. С. 326; Бер-
жель Ж. Л. Общая теория права. М., 2000. С. 423; Марченко М. Н. Проблемы общей теории государства и права: в 2-х томах. Т. 2. Право. М., 2007. С. 644; Он же. Проблемы теории государства и права. М., 2006. С. 132; Он же. Теория государства и права. М., 2005. С. 630.
-
33. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. М., 2000. С.154.
-
34. См. например: Хропанюк В. Н. Теория государства и права: Учебное пособие / Под ред. В. Г. Стрекозова. М., 1995. С. 219; Спиридонов Л. И. Теория государства и права: Учебник. М., 1995. С.103; Теория государства и права: Учебник / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. М., 1997. С. 241
-
35. Черданцев А . Ф . Теория государства и права: Учебник. М., 1999. С.181.
-
36. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В. К. Бабаева. М., 1999. С.252–253; Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Лазарева. С.155.
-
37. Пьянов Н . А . О понятии и классификации функций позитивного права // Сибирский Юридический Вестник. 2000. 4 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.lawinstitut.ru/ru/science/vestnik/20004/pyanov.html
-
38. Ожегов С . И . Словарь русского языка. М., 1987. С. 701.
-
39. Керимов Д . А . Основы философии права. М., 1992. С. 73.
-
40. Малинова И . П . Философия права (от метафизики к герменевтике). Екатеринбург, 1995. С. 168.
-
41. Мальцев Г . В . Новое мышление и современная философия прав человека // Права человека в истории человечества и в современном мире. М., 1988. С. 622.
-
42. Лукич Радомир Методология права: Перевод с сербскохорватского В. М. Кулистикова. М., 1981. С. 225.
-
43. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М. Н. Марченко. М.: Зерцало, Тейс, 1996. С. 123.
-
44. Малинова И . П . Философия правотворчества. Екатеринбург, 1996. С. 67.
-
45. Тихонравов Ю . В . Религии мира. М., 1996. С. 89.
-
46. Нерсесянц В . С . Различение и соотношение права и закона как междисциплинарная проблема // Вопросы философии права. М., 1973. С. 44.
-
47. Тихонравов Ю . В . Основы философии права: Учебное пособие. М: Вестник, 1997. С. 76.
-
48. Лукич Радомир. О философии права. Белград, 1978. С.89.
-
49. Алексеев С . С . Философия права: История и современность. Проблемы. Тенденции. Перспективы. М.: Норма. 1999. С. 203.
-
50. Власть и право. М., 1990. С. 124.
-
51. Нерсесянц В . С . Философия права: Учебник. М., 1997.
Список литературы Естественное и позитивное право о самоограничении власти
- Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма): Пер. с венгерского. М.: Юрист, 1990. С. 12.
- Finer H. Theory and Practice of Modern Government. Westport, 1970 (1949) reprint. P. 12.
- Естественное право//Википедия -свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
- Ветютнев Ю. Ю. Естественное право как научная и идеологическая конструкция//Новая правовая мысль. 2006. № 2. С. 22.
- Чичерин Б. Н. Политические мыслители древнего и нового MHpa. M., 1897. С. 35.
- Чичерин Б. Н. История политических учений. М., 1869-77. С. 46.
- Естественное право//Википедия -свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
- Bergbohm K. M. "Jurisprudenz und Rechtsphilosophie". Т. I. Лпц., 1892.
- Новгородцев П. И. Право естественное//Энциклопедический словарь/Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб., 1898. Т. ХХ1УА. С. 885.
- Новгородцев П. И.Историческая школа юристов. СПб. 1999. С. 13-16, 138, 144 и др.
- Естественное право//Википедия -свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
- Новгородцев П. И.Историческая школа юристов. СПб. 1999. С. 13-16, 138, 144 и др.
- Байтин М. И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух веков). М., 2005. С. 31, 44.
- Естественное право//Википедия -свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
- Матвиенко Е. А. Возрождение естественно-правовой теории: причины и пределы//Новая правовая мысль. 2006. № 2. С. 24.
- Штаммлер Р.Хозяйство и право: В 2 т. СПб., 1907. Т. 1. С. 189.
- Там же. С. 190, 192.
- Новгородцев П. И.Историческая школа юристов. СПб., 1999. С. 13-16, 138, 144 и др.
- Матвиенко Е. А. Возрождение естественно-правовой теории: причины и пределы//Новая правовая мысль. 2006. № 2. С. 25.
- Нерсесянц В. С. Философия права. М., 2001. С. 608.
- Гассен В. М.Возрождение естественного права. СПб., 1902. С.11.
- Проблемы буржуазной теории права. Вып. 3. М., 1984. С. 57.
- Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. М., 1998. С. 23.
- Токвиль А.Демократия в Америке. М., 1994. С. 371-373.
- Матвиенко Е. А. Возрождение естественно-правовой теории: причины и пределы//Новая правовая мысль. 2006. № 2. С. 26.
- Рейснер М. А. Право и революция. Пг., 1917. С. 19.
- Матвиенко Е. А. Возрождение естественно-правовой теории: причины и пределы//Новая правовая мысль. 2006. № 2. С. 27.
- Ветютнев Ю. Ю. Естественное право как научная и идеологическая конструкция//Новая правовая мысль. 2006. № 2. С. 22.
- Иеринг Р. Дух римского права на различных ступенях его развития. Ч.1. СПб., 1875 С. 234
- Общая теория права и государства: Учебник/Под ред. В. В. Лазарева. М., 2000. С.154.
- Хропанюк В. Н. Теория государства и права: Учебное пособие/Под ред. В. Г. Стрекозова. М., 1995. С. 219
- Черданцев А. Ф.Теория государства и права: Учебник. М., 1999. С.181.
- Теория государства и права: Учебник/Под ред. В. К. Бабаева. М., 1999. С.252-253; Общая теория права и государства/Под ред. В. В. Лазарева. С.155.
- Пьянов Н. А. О понятии и классификации функций позитивного права//Сибирский Юридический Вестник. 2000. 4 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.lawinstitut.ru/ru/science/vestnik/20004/pyanov.html
- Ожегов С. И.Словарь русского языка. М., 1987. С. 701.
- Керимов Д. А. Основы философии права. М., 1992. С. 73.
- Малинова И. П.Философия права (от метафизики к герменевтике). Екатеринбург, 1995. С. 168.
- Мальцев Г. В. Новое мышление и современная философия прав человека//Права человека в истории человечества и в современном мире. М., 1988. С. 622.
- Лукич Радомир Методология права: Перевод с сербскохорватского В. М. Кулистикова. М., 1981. С. 225.
- Теория государства и права: Курс лекций/Под ред. М. Н. Марченко. М.: Зерцало, Тейс, 1996. С. 123.
- Малинова И. П. Философия правотворчества. Екатеринбург, 1996. С. 67.
- Тихонравов Ю. В.Религии мира. М., 1996. С. 89.
- Нерсесянц В. С. Различение и соотношение права и закона как междисциплинарная проблема//Вопросы философии права. М., 1973. С. 44.
- Тихонравов Ю. В.Основы философии права: Учебное пособие. М: Вестник, 1997. С. 76.
- Лукич Радомир. О философии права. Белград, 1978. С.89.
- Алексеев С. С. Философия права: История и современность. Проблемы. Тенденции. Перспективы. М.: Норма. 1999. С. 203.
- Власть и право. М., 1990. С. 124.
- Нерсесянц В. С.Философия права: Учебник. М., 1997.
- Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб., 1908 С. 346.
- Шершеневич Г. Ф. Общая теория права: учебное пособие (по изд. 19101912 гг.) Вып.1. М, 1995. Т. 1. С. 304.
- Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999. С. 326.
- Теория государства и права: Учебник/Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. М., 1997. С. 241