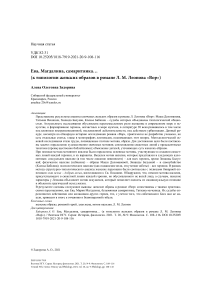Ева, Магдалина, самаритянка… (к типологии женских образов в романе Л. М. Леонова «Вор»)
Автор: Алена Олеговна Задорина
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
Представлены результаты анализа ключевых женских образов в романе Л. Леонова «Вор»: Маша Доломанова, Татьяна Векшина, Зинаида Балуева, Ксенья Бабкина – судьбы которых объединены типологической общностью. Актуальность исследования обусловлена переосмыслением роли женщины в современном мире и искусстве, и формирование героинь, несчастных в мире мужчин, в литературе 20 века развивалось в том числе под влиянием постреволюционной, послевоенной действительности, под действием урбанизации. Данный ракурс, несмотря на обширную историю исследования романа «Вор», практически не разработан учеными, но есть отдельные статьи, главы в монографиях леоноведов, поднимающих этот вопрос. Методологической основой исследования стали труды, посвященные поэтике мотива, образа. Для достижения цели были поставлены задачи: определение художественно значимых мотивов; сопоставление сюжетных линий с прецедентными текстами (преимущественно библейскими); объяснение деталей, уточняющих суть женских образов. При помощи метода мотивного анализа были определены основные мотивы, участвующие в создании сюжетных линий каждой героини, и их варианты. Выделен мотив насилия, которые представлен в следующих алломотивах: сексуальное насилие (в том числе лишение невинности) – для всех героинь, кроме Зинаиды Балуевой; физическое насилие (избиение) – образы Маши Доломановой, Зинаиды Балуевой – и самоубийство (Ксенья Бабкина); психологическое насилие (как подавление воли, отсутствие заботы) – все героини. В рамках метода структурно-типологического анализа женские персонажи были соотнесены с полюсами бинарной оппозиции злая жена – добрая жена, восходящими к Св. Писанию. Обнаружено, что, помимо мотива насилия, присутствующего в сюжетной линии каждой героини, но обусловленного не волей лица, а случаем, женские характеры у Леонова объединяет мотив искушения, который позволяет оценить их индивидуальную позицию и объяснить трагический исход жизни. В результате сделаны следующие выводы: женские образы в романе «Вор» сопоставимы с такими христианскими персоналиями, как Ева, Мария Магдалина, безымянная самаритянка, Татиана-мученица. Их судьбы определяются действиями или желаниями других героев, что, с учетом того, что собственного Бога они не нашли, приводит в итоге к отчаянию и безвозвратной гибели.
Женские образы, роковой герой, злая жена, мотив насилия, Л. М. Леонов
Короткий адрес: https://sciup.org/147234689
IDR: 147234689 | УДК: 82-31 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-9-108-116
Текст научной статьи Ева, Магдалина, самаритянка… (к типологии женских образов в романе Л. М. Леонова «Вор»)
Роман Л. М. Леонова «Вор», впервые опубликованный в 1927 г. и после этого неоднократно подвергавшийся редактированию, представляет сложную картину постреволюционного общества, в хаосе которого традиционная триада верхнего / среднего / нижнего миров утратила классическую четкость: все персонажи, вне зависимости от актуального социального положения и деятельности, формируют образ городского дна. В соответствии с духом времени автор сделал акцент на разомкнутости этого нового общества [Трубецкова, 1999], герои романа находятся в сложном отчужденном диалоге. В статье проведен сопоставительный анализ ключевых женских персонажей романа: Мария Доломанова (Манька Вьюга), Зинаида Балуева, Татьяна Векшина, Ксенья Бабкина, – жизненный путь которых имеет немало типологических общностей, в связи с чем основной исследовательский метод – метод структурно-типологический, дополненный методом мотивного анализа [Силантьев, 2004].
Роман «Вор» как один из самых интересных творческих результатов Л. М. Леонова имеет давнюю традицию исследования, привлекая читателей (хотя, по мнению Д. Л. Быкова, «вряд ли сегодня найдётся человек, который стал бы читать «Вора» [Быков, 2018, c. 34]) и ученых неоднозначностью авторской позиции, вопрос о которой, судя по количеству редакций, оста- вался открытым и для самого Леонова. Написано немало работ о жанре романа, о его стиле (труды Г. Г. Исаева [1975], Я. Минмина [2004], Е. Г. Трубецковой [1999], В. А. Осинского [2004] и пр.), остановимся на тех, где в центре внимания именно женские характеры. Самым изученным является, безусловно, образ Маньки Вьюги (В. И. Хрулев [2014], Т. М. Вахитова [2007; 2011]). У Вахитовой она вписана в ряд роковых красавиц русской литературы, где самая очевидная параллель – с героинями Достоевского с их надрывами и самоистязанием, «ибо в истоках этого характера лежит мотив растления невинной девушки» [Вахитова, 2007, c. 268]. Мысль исследователя продолжается С. Л. Чиргадзе: «Говоря о Леонове, нельзя не сказать, что опирается он, в первую очередь, на традиции Ф. М. Достоевского и пытается их продолжить, в частности в “Воре” прослеживается диалог и с “Братьями Карамазовыми” и с “Преступлением и наказанием”. Но если для Достоевского важен христианский взгляд на мир, то мировоззрение Леонова много сложней» [Чиргадзе, 2017, c. 289]. Гораздо реже и более поверхностно внимание исследователей обращалось к прочим женским образам романа, что существенно сужает художественный замысел, а, как писал А. И. Солженицын [2003], «более всего удались Леонову второстепенные персонажи, отчетливые характеры – от них в романе яркое, многолюдное оживление». По нашей гипотезе, леоновских героинь можно рассмотреть в рамках архетипической дихотомии добрая жена – злая жена, истоки которой восходят к Библии и религиозным текстам отечественной культуры. В. К. Васильев, активно работающий в данном направлении анализа литературного текста, полагает, что подобный подход «применим к любому произведению русской литературы при условии, если в нем имеется сколько-нибудь психологически разработанный женский персонаж» [2018, c. 142]. Хотя, на наш взгляд, это высказывание слишком категорично очерчивает рамки разнообразия женских характеров в русской литературе, в леоновском романе «Вор», написанном с явной ориентацией на Достоевского, предложенная бинарная оппозиция уместна.
Результаты исследования
Общей чертой жизнеописания героинь является переломный момент, до которого их судьба шла по праведному руслу, но потом резко и бесповоротно меняет направление. Очевидно, что этот момент связан с героем-мужчиной, случайно или нарочно встретившимся на пути героини, так актуализируется мотив насилия. В романе он представлен следующими алломотивами: сексуальное насилие (в том числе лишение невинности) – для всех героинь; физическое насилие (избиение) – образы Маши Доломановой, Зинаиды Балуевой – и самоубийство (Ксенья Бабкина); психологическое насилие (подавление воли, отсутствие заботы) – все героини. Стартовым для погибельной судьбы оказывается алломотив сексуального насилия, его воплощение в романе показано в таблице.
|
Героиня |
Роковой герой |
Что произошло |
|
Маша Доломанова |
Агей |
«Внезапно на берег к ней вышел Агейка и взял ее. Без крика, напрасного в такой пустыне, она кусала ему лицо и руки, он осилил» (Леонов, 2013, т. 2, c. 143) 1 |
|
Митя Векшин |
«Ах, да если бы даже за тыщу верст, в гостях у бога самого находился твой Митя, и тогда, пусть на одном крыле, пускай даже на сломанном, должен был на помощь ко мне подоспеть!» (с. 571) |
|
|
Таня Векшина |
Николай Заварихин |
«И тут при виде укромных ложбинок вокруг как-то само собою возникло в нем одно такое неотложное намеренье. Привязывая лошадь к березе, он испытующе, чуть вскользь взглянул на Таню. Она заметалась, поникла…» (с. 319) |
|
Героиня |
Роковой герой |
Что произошло |
|
Ксенья Бабкина |
Старик |
«Ласковый такой, благообразный старичок с бородкой попался мне на разживу, все головой качал на повесть мою, даже языком в конце пощелкал от жалости... словом, умилился он очень, но не помиловал, Кащей» (с. 605) |
|
Митька Векшин |
«Вот недавно совсем было и нас с Ксенькой в обывательскую трясину эту засосало, но ты пришел, все железной рукой прекратил, одним словом, вытащил…» (с. 609) |
|
|
Зинаида Балуева |
Митька Векшин |
«Сколько он тебе дал? Нехорошо, Зина, подлеца из любовника делать!.. А теперь ступай купи вина на его деньги! – Ведь ни копейки у меня на завтра, Митя… – начала она, но подчинилась нетерпенью в его лице» (с. 470) |
Можно увидеть, что главный герой романа, Дмитрий Векшин, сыграл роковую роль в жизни всех героинь, за исключением сестры (можно говорить лишь о косвенном влиянии персонажа, назначившем встречу Тане в том же кабаке, куда пришел Николка Заварихин), при этом повествователем даются альтернативные версии событий. Так, неоднократно повторяется, что Маша Доломанова стала женой Агея после насилия над ней на темном берегу, и создается впечатление, что именно это и стало причиной размолвки между нею и бывшим возлюбленным Митькой. Другую причину произошедшего героиня называет Тане Векшиной – если бы Митька не выбрал своей невестой революцию, то не бросил бы ее на произвол судьбы и пришел бы на назначенное свидание, защитил бы от Агея. Но независимо от версии именно включение мотива насилия определяет жизненную канву Вьюги: отчаяние, чувство обреченности толкают ее в «яму с Агеем», делают «злой» Машей Доломановой.
Архетип «злой жены» в случае Вьюги включает следующие компоненты: искушение, внесение раздора, мстительность, преступление. Возле нее, подобно Настасье Филипповне из «Идиота», жаждущие любой ценой близости мужчины, ее диалог с ними выстраивается через мотивы обещания и отталкивания. Можно согласиться, что «всегда злой женой будет блудница, соблазняющая мужчину, в том числе “чужая”, замужняя, изменяющая мужу» [Васильев, 2018, с. 145]. Соблазняя своих ухажеров и не позволяя им приблизиться, героиня тем самым словно пытается перевернуть гендерную парадигму: если вначале ее жизнь была определена действиями мужчин, то теперь она решает их судьбы. Отметим, что при этом взаимодействие героев не выходит за рамки игры: кроме Агея, близости не удостоился ни кудрявый поэт Донька, спавший в коридорчике вдовы, ни сочинитель Фирсов, забывающий при виде Маньки о жене, ни Митька Векшин, готовый сидеть всю ночь под дверью, прислушиваясь – одна или с кем-то? Ситуация флирта делает Маньку королевой, но не избавляет от одиночества.
Гротескность образа Вьюги подчеркивается совмещением антитез – униженная гордыня не позволяет Маньке ни простить забывшего о свидании Векшина, ни сказать ему о причинах своего гнева, чтобы расставить точки на i, что приводит к безысходному отчаянию героини. Эта же непреходящая обида заставляет Машу рассказывать историю своего падения Тане Векшиной, в целом чужому для нее человеку, посмевшему вступиться за вора.
Мотив самобичевания объединяет Вьюгу с Ксеньей, в прошлом проституткой, в настоящем – супругой Саньки Велосипеда, подельника Векшина. Союз Саньки и Ксеньи соотносим с библейским сюжетом об Иисусе и Магдалине в его католической версии, широко известной в литературных кругах, согласно которой Магдалина была блудницей, но оставила ремесло, встретив Иисуса Христа. Санька, мелкий вор, становится надеждой Ксеньи на возможность женского счастья: венчание в церкви начинает новую веху в ее жизни, она словно переживает крещение. В описании героини очевидно, что она пытается подражать образцу идеальной жены:
Любопытно было видеть, как усердно, хоть и бессознательно, всем существом своим, не только привычками, даже речевым складом старалась она стать поскорее Санькиной половиной. <…> бегали по шитву ее тонкие, прозрачные, не наши пальцы, хотя она ими и белье стирала мужу, и полы мыла, и все там прочее… (с. 416).
В отличие от новозаветного сюжета, у Леонова полное искупление грехов оказывается невозможным: несмотря на освящение уз брака в церкви, измененный образ жизни, Ксенье не дано спасение – Санька отступает под натиском вожака, отдает ему накопленные на переезд в деревню деньги (тридцатку – тридцать сребреников!), ставя этим поступком крест на семейной жизни. Безумие и страшная смерть героини усугубляют трагизм ситуации, когда уверовавший в спасение осознает свою обреченность.
На первый взгляд противоположным предыдущим героиням рисуется образ сестры Дмитрия Векшина, Татьяны. Портрет ее создан в явной ориентации на фигуры христианских святых, в частности Татианы-мученицы (через хронотоп цирка, который являет собой метафору Преисподней (Жития…, 2004, с. 342)). Развернутое описание героини контрастно облику ее брата, смятенного Дмитрия. Если в чертах вора читается «быстрое, злое и точное движенье» (c. 73), то внешность Тани исполнена кротости и чистоты:
Вошедшая выглядела труженицей. Подчеркнуто скромную одежду ее несколько скрашивал лишь дорогой, даже в непогоду пушистый мех на плечах, а как будто провинившийся, до сердца достигающий взор слегка раскосых, полных синего детского света глаз придавал подкупающую душевность всему ее облику (c. 87).
Броская костюмная деталь – «пушистый мех на плечах» бедной циркачки – объединяет ее с братом, «подкупающе скромным, если бы не эта неуместная для ночного кабака енотовая шуба и такая же дорогая шляпа» (c. 73). На обоих персонажах эти роскошные одежды выглядят чуждо, как будто они их украли и надели сверху на нищенские рубахи, что, в общем-то, недалеко от истины (фешенебельный подарок Митьки сестре, нечаянно обворованной им самим в поезде). Но противопоставлена Таня не только брату, но и его оппоненту Николке Заварихину (см. таблицу), и Маньке Вьюге, ее нравственному антиподу.
|
Критерий |
Митька Векшин |
Николка Заварихин |
Таня Векшина |
|
Взаимодействие с чужими людьми |
Закрытый |
Закрытый (под маской открытости) |
Открытая |
|
Взаимодействие с близкими людьми |
Закрытый |
Закрытый (под маской открытости) |
Открытая |
|
Отношение к сексуальной близости |
Близость ничего не значит |
Близость ничего не значит |
Близость – возможность любви |
|
Отношение к труду |
Живет за чужой счет, вор |
Живет за чужой счет, нэпман |
Труженица |
|
Отношение к деньгам |
Деньги – смысл его воровства |
Деньги – смысл всего |
Деньги ничего не значат |
Характерно, что для Заварихина Татьяна и Вьюга не только противопоставлены, но и являют единое целое:
Две женщины стояли в памяти у него: та, утренняя, боролась с этой, вечернею. Утренняя была близка, потому что плакала, вечерняя – своей улыбкой; порой они сливались воедино, как половинки разрезанного яблока (c. 88).
Обе героини вызывают у нэпмана соблазн, что подчеркнуто символичным яблоком. Но если Манька – Магдалина (Мария!), не раскаивающаяся в прегрешениях и погрязающая в них всё глубже и глубже, то Таня, в итоге отдавшаяся Николке, сопоставима с Евой, еще не изгнанной из Эдема.
Основанием для сходства героинь можно назвать и рискованный характер их деятельности: криминальные забавы Вьюги и цирковые выступления Тани воплощают грани человеческого существования. Для художественного метода Леонова характерны нетипичные контрасты, вырастающие из сложившихся традиций. Если у Достоевского церковь противопоставлена кабаку, то у Леонова – цирку, при этом оба хронотопа соединены мотивом чуда [Zadorina, 2011, p. 837] – «священное и волшебное осталось нынче только в церкви и цирке». В свете образов Маньки Вьюги и Тани Векшиной видим, что хронотопы кабака и цирка тоже связаны – мотивом падения, мотивом искушения, мотивом тьмы, символизируя бездну человеческой души. Случайная любовь к Заварихину сначала придает смысл существованию Татьяны, а затем эту бездну открывает во всей ее беспощадности, что приводит к трагедии во время прощального выступления. Завершение Таниной линии также носит религиозно-символический характер: «Таню уносили, похожую издали на обвядший голубой цветок» (c. 673).
Еще один значимый женский образ – певица Зинаида Балуева. Именно ее комната будет местом сбора всех персонажей, а ее именины становятся кульминацией сюжета. Судьба героини связана с тремя мужчинами: отцом Клавди, Митькой Векшиным, Петром Чикилевым. Очевидно, что ни с одним из них жизнь артистки не удалась:
Ты теперь будешь мамин муж. Она тебе кровать купила, в сарае стоит, а дядя Матвей на ящиках спал.
Ты ее не бей, ладно? Прошлый папа посуду колотил и все ругался… Только он недолго папа был… (c. 410).
К Митьке Зинаида испытывает безответную любовь и догадывается, что в ее комнатке он нашел лишь временное пристанище, но и этой случайности рада. Как и у Тани Векшиной, оправдывающей холодность Заварихина, чувства Балуевой безусловны:
Ее образцово-безнадежная любовь состояла из безотчетного восторга, робких подозрений, страхов утраты, готовности в любое время отречься от права на счастье для малейшего его удобства (c. 279).
И именно безразличный Векшин подталкивает певицу к ненавистному ей управдому – требуя денег на еду, вино в дни, когда ее выгнали с работы, он вынуждает Балуеву идти просить их к Чикилеву и позже даже сам предлагает это сделать.
Очевидно, что ни один из сожителей Зинаиды не может называться ее настоящим мужем, поскольку христианская любовь предполагает и взаимное уважение, и служение, и помощь. Вспомним разговор Иисуса Христа с женщиной из Самарии: «Иисус говорит ей: пойди, позови своего мужа и приходите сюда. Женщина же сказала Ему в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: верно ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо пять мужей было у тебя, и тот, кто сейчас есть у тебя, – не муж тебе» (Ин. 4: 16–18). У этого фрагмента, помимо буквального сходства с сюжетной ситуацией в романе, есть интересное толкование от Евфимия Зига-бена: муж суть закон Божий, и «этот закон не был для нее мужем, потому что она не всецело любила и соблюдала его» 2. Такая интерпретация подчеркивает, что героиня, вступающая в сожительство с мужчинами, которых сама не любит, либо которые не любят ее, не может считаться праведницей, даже если других грехов у нее нет. Законный брак между Зинаидой и Чикилевым не наделяет жизнь героини смыслом, а приводит к тоске и увяданию.
Заключение
Женские образы у Леонова отличаются особым трагизмом, вызванным невозможностью обрести покой и счастье в пределах земной жизни. Их судьбы соотносятся с такими библейскими персонажами, как Ева, Магдалина, безымянная самаритянка, но могут включать и элементы образов праведниц, как, например, сопряжена мотивом испытания в цирке судьба Тани Векшиной с судьбой Татианы-мученицы или очерчены мотивом юродства последние дни Ксеньи Бабкиной. Их портреты различны, но очевидно фабульное сходство сюжетных линий, ими представленных. «Все главные герои “Вора” находятся на грани жизни и смерти и в последнем усилии стремятся найти спасение души в любви, в обретении смысла жизни, в поисках “другого существования”» [Вахитова, 2007, c. 131], но ни одна из героинь «Вора» не нашла счастья в супружестве, не нашла Бога и смысла существования. Революция, гражданская война превратили устоявшийся мир в хаос, где раскаявшаяся блудница не будет принята Христом, потому что в хаосе и бездне нет Бога.
Список литературы Ева, Магдалина, самаритянка… (к типологии женских образов в романе Л. М. Леонова «Вор»)
- Быков Д. Л. Лекции по русской литературе ХХ века. М.: Эксмо, 2019. Т. 2. 256 с.
- Васильев В. К. Об архетипическом подходе к анализу женских образов-характеров (письменный и устный текст) // Сибирский филологический журнал. 2018. № 3. С. 142–153.
- Вахитова Т. М. Художественная картина мира в прозе Леонида Леонова (структура, поэтика, эволюция): Монография. СПб.: Наука, 2007. 317 c.
- Вахитова Т. М. Интертекстуальный флер роковых красавиц в прозе Леонида Леонова // Вестник Волгоград. гос. ун-та. Серия 8: Литературоведение. Журналистика. 2011. Вып. 10. С. 28–37.
- Исаев Г. Г. Проблема стилевой традиции Достоевского в прозе Леонида Леонова 1920-х годов: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Горький, 1975. 23 с.
- Минмин Я. Некоторые стилевые традиции в ранней прозе Л. Леонова: 1921–1925 гг.: Дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2004. 150 с.
- Осинский В. А. Идейно-творческая эволюция Л. Леонова от «Вора» к «Пирамиде»: сравнительно-типологический анализ двух романов: Автореф. дис. ... канд. филол. наук:. М., 2004. 17 с.
- Силантьев И. В. Мотивный анализ: Монография. Новосибирск, 2004. 239 с.
- Солженицын А. И. Леонид Леонов – «Вор» (из «Литературной коллекции») // Новый мир. 2003. № 6. URL: http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2003_10/Content/Publication6_3388/Default.aspx (дата обращения 31.01.2021).
- Трубецкова Е. Г. «Текст в тексте» в русском романе 1930-х годов: Дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 1999. 219 с.
- Хрулев В. И. Роман «Вор» в духовной биографии Леонида Леонова // Наш современник. 2014. № 5. С. 258–275.
- Чиргадзе С. Л. Революционное поколение в романах Леонида Леонова «Вор» и Захара Прилепина «Обитель» // Русская революция 1917 года в гуманитарной парадигме: Материалы XXII Шешуковских чтений. М., 2017. С. 288–294.
- Zadorina A. O. The Motif of the Gift in the Works of Leonid Leonov (1924–1953). Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences, 2011, vol. 6 (4), pp. 837–845.
- Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней св. Димитрия Ростовского (репринт). Киев: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, 2004. Т. 5: Месяц январь. С. 338–384.
- Леонов Л. М. Собр. соч.: В 6 т. М.: Книжный клуб Книговск, 2013. Т. 2. 720 с.
- Толкования Священного Писания. URL: http://bible.optina.ru/new:in:04:18 (дата обращения 31.01.2021).