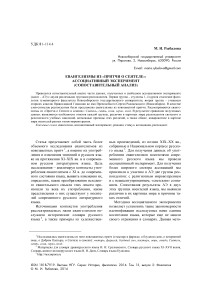Евангелизмы из "Притчи о сеятеле": ассоциативный эксперимент (сопоставительный анализ)
Автор: Рыбалова Мария Игоревна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Проводится сопоставительный анализ части данных, полученных в свободном ассоциативном эксперименте (далее – АЭ) с двумя различными группами респондентов. Первая группа – студенты 1–4 курсов отделения филологии гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета, вторая группа – учащиеся старших классов Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского (Новосибирск). В качестве слов-стимулов респондентам были предложены евангелизмы из новозаветной притчи. Рас сматриваются евангелизмы из «Притчи о Сеятеле и семени»: Сея тель, сеять, семя, зерно, плод. В результате сравнения полученных данных выявляются особенности ответов каждой группы, различия в картинах мира респондентов светского и религиозного учебных заведений, возможные причины этих различий, а также общее, инвариантное в картине мира носителей разных типов мировоззрения.
Евангелизм, ассоциативный эксперимент, реакция, стимул, ассоциация, респондент
Короткий адрес: https://sciup.org/147219002
IDR: 147219002 | УДК: 81–114.4
Текст научной статьи Евангелизмы из "Притчи о сеятеле": ассоциативный эксперимент (сопоставительный анализ)
Статья представляет собой часть более объемного исследования евангелизмов из новозаветных притч 1, а именно их употребления и изменения значений в русском языке на протяжении XI–XIX вв. и в современном русском литературном языке. Цель исследования – анализируя контексты употребления евангелизмов с XI в. до современного состояния языка, выявить изменения их, определить, какие преобразования исходного евангельского смысла этих лексем произошли за века их употребления, какие представления о них существуют у носителей современного русского литературного языка.
Источниками контекстов употребления рассматриваемых нами евангелизмов послужили исторические словари русского языка 2, а также примеры из художествен- ных произведений, из поэзии XIX–XX вв., собранные в Национальном корпусе русского языка 3. Для получения данных об употреблении евангелизмов носителями современного русского языка мы провели ассоциативный эксперимент. Для получения более широкого спектра ассоциаций мы привлекли к участию в АЭ две группы респондентов: с религиозным мировоззрением и с неакцентуированным, «светским» сознанием. Сопоставляя результаты АЭ в двух этих группах носителей языка, мы выявили различия в их картинах мира и причины таких отличий.
Методика ассоциативного эксперимента позволяет установить такие закономерности идентификации исследуемых нами единиц носителями языка, которые еще не нашли своего отражения в словарях. Данная мето- дика, разработанная А. А. Леонтьевым [1967], во многом усовершенствованная Ю. Н. Карауловым [1987], Р. М. Фрумкиной [2001], А. А. Залевской [2005] и другими психолингвистами, применима как к современному материалу, так и к историческому.
Сегодня стали актуальными труды, посвященные евангелизмам в современном русском языке (см.: [Туркова-Зарайская, 2002]), соответственно данное исследование проводится в контексте уже существующих работ.
Как говорилось выше, участниками АЭ стали две группы респондентов: 1) студенты отделения филологии гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета (1–4 курсы) – 94 чел., 2) учащиеся старших классов Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского (7–10 классы) – 87 чел. Привлечение именно этих групп респондентов объясняется следующими причинами.
Студентов-филологов мы привлекли к АЭ, так как они являются представителями и носителями русской культуры, современного русского литературного языка, сфера их профессиональных интересов – русская литература и русский язык. Поэтому мы рассчитывали получить с их помощью более полные данные.
Вторая группа респондентов – учащиеся, верующие, тексты евангельских притч знакомы им с детства, эти образы занимают важное место в их картине мира, существенны для их мировоззрения. От них мы рассчитывали в более полной мере получить именно исходные новозаветные значения евангелизмов. В ассоциациях и контекстах, приведенных ими, выявляются именно те значения, которые прошли сквозь века употребления евангельской лексики и фразеологии, сохранились в языке и не утратили своей роли в культуре и литературе. В будущем, для получения более разнообразных данных, было бы продуктивно привлечь к исследованию и другие группы носителей русского языка, например, физиков, математиков.
Мы исследовали евангелизмы из пяти выбранных нами притч, на наш взгляд, самых культурно значимых, распространенных в русском языке и культуре: 1) о мытаре и фарисее, 2) о заблудшей овце, 3) о Добром Пастыре, 4) о блудном сыне, 5) о Сеятеле и семени. В качестве слов-стимулов в анкету были включены следую- щие 11 евангелизмов: мытарь, фарисей; пастырь, овцы, стадо; блудный сын; сеятель, сеять, семя, зерно, плод. Причем евангелизмы из одной притчи не ставились рядом в анкете, чтобы не «наталкивать» отвечающего на вопросы на связь между этими словами (например, мытарь и фарисей). Наш АЭ был свободным, и ответы респондентов не ограничивались никакими грамматическими или семантическими критериями.
Приведем вопросы анкеты проведенного нами ассоциативного эксперимента.
-
1. Запишите ассоциации, которые вызывают у Вас следующие слова: перечислить их… Напишите первые слова, пришедшие вам в голову.
-
2. Запишите устойчивые словосочетания или фразеологизмы с указанными выше словами (если таковые есть).
-
3. Приведите примеры употребления данных слов (составьте словосочетания, предложения); подберите эпитеты, где это возможно.
-
4. Приведите однокоренные слова разных частей речи к приведенным словам.
-
5. Вспомните какие-нибудь тексты, литературные (в том числе поэтические) произведения, в которых использовались эти образы: блудный сын , пастырь и овцы / стадо , мытарь и фарисей , сеятель ( сеет ) семя .
-
6. Что, на Ваш взгляд, объединяет все приведенные в предыдущем вопросе сочетания слов?
-
7. Существует ли такой текст (или тексты), где бы встречались все рассмотренные выше единицы? Если существуют, назовите их.
В анкету АЭ были включены дополнительные вопросы.
Заполнение анкет респондентами происходило в лекционных аудиториях и заняло 20 минут. В условия работы входило давать ответы по возможности быстрее, не вспоминать то, что забыто, а записывать первое, что приходит в голову.
Всего в ассоциативном эксперименте на пять основных вопросов от 181 респондента было получено 6 110 ответов. По итогам проведенного АЭ среди евангельских притч выявились свои «полюса» распознаваемости евангелизмов в каждой группе респондентов. Так, для студентов НГУ самая незнакомая притча – о мытаре и фарисее. Эти два евангелизма вызвали некоторые затрудне- ния и в ответах на вопрос № 1, а контексты, составленные со словами мытарь и фарисей, свидетельствуют о совершенном незнании текста первоисточника (например, добрый фарисей, злобный мытарь). Напротив, для учащихся Православной гимназии «Притча о мытаре и фарисее» оказалась самой узнаваемой, все контексты и ассоциации, приведенные ими, свидетельствуют о хорошем знании первоисточника – текста притчи.
Самой распознаваемой среди студентов-филологов оказалась «Притча о Сеятеле»: вопросы, связанные с лексемами из этой притчи, почти не вызвали затруднений. Респонденты привели устойчивые выражения с евангелизмами сеятель , сеять , семя , зерно , плод , как с положительной, так и с отрицательной коннотацией (например, сеять добро / разумное / истину ; сеять ложь / вражду ), составили самые разнообразные по семантике контексты. Ниже проанализированы и описаны данные АЭ по евангелиз-мам из указанной «Притчи о Сеятеле и семени».
Евангелизмы
Сеятель , сеять , семя , зерно , плод
Евангелизмы из «Притчи о Сеятеле и семени» 4 употребляются в самых разнообразных контекстах и имеют систему переносных значений, сложившуюся в языке за века. Конечно, корни таких метафор, как сеять вражду / сеять добро уходят в далекую историю человечества; но именно потому Христос и использовал их, ведь они были понятны и близки большинству простых людей. Поэтому, когда носитель современного русского литературного языка приводит различные контексты употребления этих евангелизмов, в большинстве случаев он распознает их как связанные с образами из евангельских притч, или «узнает» в них иные прецедентные феномены.
Среди ответов на первый вопрос анкеты у студентов НГУ встретились прямые указания на связь лексем сеятель, сеять, семя с Евангелием: притча (6), Евангелие, Библия (2), Христос, проповедник. Ассоциации с Библией также проявились в таких контек- стах, почти цитирующих притчу, как: вышел сеятель сеять и др. Также подтвердилась предсказуемая ассоциативная взаимосвязь между этими тремя евангелизмами – в большинстве анкет все они выступили как реакции друг на друга. Кроме того, в подобных ассоциативных связях с рассматриваемыми нами единицами находятся существительные зерно (часто выступающее в ассоциациях как эквивалент существительного семя) и плод.
С другой стороны, бо́ льшую часть слов-реакций, данных филологами на стимулы сеятель , сеять , семя , можно отнести к тематической группе бытовой лексики, связанной с прямыми значениями этих еванге-лизмов. Так или иначе, все они относятся к сфере работы земледельца: это и глаголы, называющие различные виды деятельности, связанной с посевом чего-либо ( пожинать , жать , полоть , пахать , веять , развивать ), и номинации мест этой деятельности ( поле , в огороде , вспаханная земля , почва , борозды ), а также орудий труда и т. п. ( плуг , решето , сито , рука , лопата , комбайн ). Часть реакций – это названия различных растений, которые «могут быть посеяны», или их плодов: это и более общие названия ( зерно , семя , хлеб ), и конкретные виды растений: пшеница , овес , рожь , морковка , цветы , виноград. Также встретились контексты, ошибочные по своей семантике: сеять пшено , урожай .
Отметим, что и в «Русском ассоциативном словаре» Ю. Н. Караулова приведены практически такие же результаты ассоциативного эксперимента, ср.: сеять – рожь 13 , зерно 12 , пшеницу 11 , хлеб 7 , пшено 6 , добро , жать 4 ; веять , муку , пахать , раздор , разумное 3 , овес , панику , урожай 2 , доброе , зерна , зло , ложь ; Как посеешь , так и пожнешь ; морковку , поле , разбрасывать , расти , рыхлить , семена , семя , смуту , собирать , ссору , хорошее , доброе , вечное // [1998. Кн. 5. С. 155]. Следовательно, подобные ассоциативные связи достаточно прочны в сознании носителей современного русского языка.
Кроме того, в анкетах были приведены и ассоциации, свидетельствующие о наличии у участников проведенного АЭ представления о переносных значениях слов сеять, сеятель, семя. Это видно из следующих реакций на соответствующие стимулы: сеять – зло, раздор, вражду, ложь, панику, смуту, пороки, знание, благо, истину, веру, добро; разумное, доброе, вечное; звезды; сеять в сердцах что-нибудь и др., семя -раздора, вражды, веры, добра и т. п. Как видим, присутствуют контексты с явно выраженной отрицательной и положительной коннотацией. Такой широкий спектр переносных употреблений свидетельствует о высокой активности этих слов в речи.
Кроме приведенных слов-реакций, присутствовали различные наименования сеятеля , основанные как на прямых, так и на переносных значениях этих евангелизмов: пахарь , крестьянин , землепашец , труженик , человек , проповедник , Иисус , Христос , Творец , мудрый сеятель (здесь имеют место и прямые отсылки к евангельской притче). Кроме того, 26 респондентов вспомнили пушкинское стихотворение, в котором использовался образ сеятеля . Двадцать шесть из них привели контексты употребления этого существительного, со значением, обусловленным местными реалиями: на « Сеятеле » остановите , пожалуйста! ( Сеятель – название автобусной остановки) и т. п.
Многие участники АЭ вспомнили различные устойчивые выражения, фразеологизмы, поговорки с этими лексемами: что посеешь, то и пожнешь; сеешь ветер, пожнешь бурю; сеять добро / зло / пороки / панику / смуту / раздор – с одной стороны, и сеять свет / разумное / знания / семена просвещения и пр. – с другой. Здесь мы видим широкий спектр вариантов устойчивых словосочетаний с противоположными метафорическими значениями, как с положительными, так и с отрицательными коннотациями. Это свидетельствует о том, что данные лексемы и фразеологические единицы находятся в активном лексическом запасе респондентов, входят в их когнитивную базу как носителей современного русского литературного языка. Слова сеятель, семя, сеять очень частотны в литературной и разговорной речи. Мы встречаем эти образы начиная со школы (в некрасовском 5 и подобных значениях). Многие респонденты, действительно, вспомнили этот известный контекст: «Сеять разумное, доброе, вечное»; а также приблизительную цитату из знаменитого стихотворения «сейте прекрасное, светлое, доброе!»
Что касается реакций на стимул семя , в них присутствуют приблизительно те же семантические группы. Помимо лексики, связанной с растительным миром ( пшеница , миндаль , орех , подсолнух , дерево , злак ), заслуживает особого внимания группа слов-реакций, связанных с общими представлениями о функции семян – жизни, будущего, продолжения жизни: всходы , росток , жизнь , начало , рождение , будущее и т. п. Были приведены и такие контексты: только то семя принесет пользу , которое умрет в земле , дав… другим побегам , с указанием «из Братьев Карамазовых».
Учащиеся Православной гимназии также приводили ассоциации бытового характера, с сельскохозяйственной семантикой. Хотя контексты, связанные с евангельским смыслом притчи, у них возникали чаще. Многие вспомнили стихотворение А. С. Пушкина «Свободы Сеятель пустынный…», основанное на новозаветной аллегории Господь – Сеятель. В основном же их ответы близки по семантике к ответам студентов НГУ, только у первых они менее разнообразны по значениям, фонд фразеологизмов и устойчивых словосочетаний у них также беднее.
В результате сопоставления ответов на вопросы анкеты АЭ респондентов обеих групп мы выделили некоторые особенности.
Евангелизмы из «Притчи о Сеятеле и семени» вызвали наиболее разнообразные по семантике ассоциации у студентов. Кроме того, у филологов наблюдаются:
-
• большее семантическое разнообразие ассоциаций;
-
• меньшее количество ассоциаций, свидетельствующих о распознавании прецедентных текстов – притч.
В их ответах встречаются:
-
• больше устойчивых выражений, ФЕ с евангелизмами;
-
• больше словообразовательных дериватов для евангелизмов;
-
• меньше контекстов с евангелизмами;
-
• больше названий художественных произведений, в которых использовались эти образы.
Кроме общего источника евангелизмов – притч, указаны общие языковые признаки ( крылатые выражения , книжный характер , они все имеют переносные значения ) .
В ответах учащихся Православной гимназии выявлены следующие особенности:
-
• меньшее лексическое разнообразие ассоциаций;
-
• больше ассоциаций, свидетельствующих о распознавании прецедентных текстов – притч;
-
• приведено меньше устойчивых выражений, ФЕ с евангелизмами;
-
• встретилось меньше словообразовательных дериватов для евангелизмов;
-
• выявлено гораздо больше контекстов с евангелизмами; большая часть их – в смысловом контексте притч;
-
• упомянуто сравнительно немного названий художественных произведений, в которых использовались эти образы; в основном указаны тексты Библия , Евангелие , притчи , проповеди ;
-
• не указаны языковые признаки еван-гелизмов – но всеми респондентами подчеркивается их связь с первоисточником – евангельскими притчами.
На наш взгляд, такие отличия обусловлены разным уровнем и глубиной культурного фона и филологического образования, а также различными типами сознания – неакцентуи-рованного (студенты НГУ) и акцентуированного, религиозного (учащиеся Православной гимназии).
В дальнейших исследованиях может стать продуктивным вовлечение других профессиональных, возрастных групп носителей современного русского литературного языка. Тогда результаты АЭ станут более полно и адекватно отражать представления о еван-гелизмах «среднего» носителя русской культуры и языка.
Список литературы Евангелизмы из "Притчи о сеятеле": ассоциативный эксперимент (сопоставительный анализ)
- Залевская А. А. Психолингвистические исследования // Залевская А. А. Слово. Текст: Избр. тр. М.: Гнозис, 2005.
- Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность: Моногр. М.: Наука, 1987.
- Леонтьев А. А. Психолингвистика: Моногр. Л.: Наука, 1967.
- Туркова-Зарайская М. О. Особенности понимания библеизмов современными носителями языка: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Тверь., 2002. 18 с.
- Фрумкина Р. М. Психолингвистика: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2001.