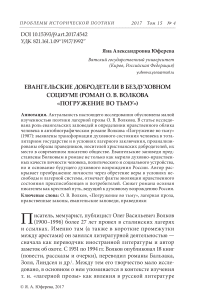Евангельские добродетели в бездуховном социуме (роман О. В. Волкова "Погружение во тьму")
Автор: Юферева Яна Александровна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.15, 2017 года.
Бесплатный доступ
Актуальность настоящего исследования обусловлена малой изученностью поэтики лагерной прозы О. В. Волкова. В статье исследована роль евангельских заповедей в определении нравственного облика человека в автобиографическом романе Волкова «Погружение во тьму» (1987): выявлены трансформации духовного состояния человека в тоталитарном государстве и в условиях лагерного заключения, проанализированы образы праведников, носителей христианских добродетелей, их место в современном писателю обществе. Евангельские заповеди представлены Волковым в романе не только как мерило духовно-нравственных качеств личности человека, политического и социального устройства, но и основание будущего духовного возрождения России. Автор раскрывает преображение личности через обретение веры в условиях несвободы и лагерной системы, отмечает факты эволюции нравственного состояния приспособленцев и потребителей. Сюжет романа осознан писателем как крестный путь, ведущий к духовному возрождению России.
О. в. волков, "погружение во тьму", лагерная проза, нравственные законы, евангельские заповеди, праведники
Короткий адрес: https://sciup.org/14749033
IDR: 14749033 | УДК: 821.161.1.09“1917/1992” | DOI: 10.15393/j9.art.2017.4542
Текст научной статьи Евангельские добродетели в бездуховном социуме (роман О. В. Волкова "Погружение во тьму")
П исатель, мемуарист, публицист Олег Васильевич Волков (1900–1996) более 27 лет провел в сталинских лагерях и ссылках. Именно там (а также в короткие промежутки между арестами) он занялся литературной деятельностью — сначала как переводчик иностранной литературы и автор заметок об охоте. C 1951 по 1994 гг. Волков опубликовал 18 книг (повести, рассказы и очерки), переводил романы Бальзака, Золя, Линдсея и др. 1 . Между тем его творчество мало исследовано, в основном о нем упоминается в контексте изучения т. н. «лагерной прозы» как явления в русской литературе
(см.: [1]; [7]; [9]–[14]), практически отсутствуют исследования, посвященные поэтике произведений Волкова.
Его главная книга — автобиографический роман «Погружение во тьму», написанный в начале 1960-х гг., впервые опубликованный в Париже в 1987 г., в СССР — в 1989 г. По замечанию М. Чотчаевой, именно трагический личный опыт Волкова позволил ему не только правдиво запечатлеть ужас гулаговских застенков, но и затронуть вечные проблемы человеческого существования [15, 279]. Это произведение «объединяет конкретные описания страшной реальности следствий, лагерей и ссылок со скорбными раздумьями о связи этих преступлений с политической системой», проникнуто «христианским смирением, любовью, ответственностью за Россию и желанием, показывая истину, содействовать добру» [5]. Ни репрессии, ни официальная пропаганда, ни работа в советских издательствах не поколебали христианские ценности и добродетели Волкова. В одной из бесед на вопрос: «Что же помогло Вам тогда выжить, выстоять, какая сила?» — писатель ответил: «Православие и мое воспитание. Я упрямо держался за веру отцов» [8].
Непростой судьбе автора и испытанию его веры лагерями посвящены многие страницы «Погружения во тьму» — «тюремной одиссеи» Волкова. Бывали времена, когда он не находил утешения в вере, не видел в ней реальной силы, способной оказать сопротивление «затопившему мир злу»:
И если до этого внезапного озарения — или помрачения? — обрубившего крылья надежде, я со страстью, усиленной гонениями, прибегал к тайной утешной молитве, упрямо держался за веру отцов и бывал жертвенно настроен, то после него мне сделалось невозможным даже заставить себя перекреститься…2.
Благодаря общению с людьми, не сломленными обстоятельствами, истинно верующими и праведниками, он утверждается в возможности одоления зла.
А. Н. Ефимова относит героев-праведников, как и автобиографического героя-рассказчика, к двум нравственно-психологическим типам: людям, растущим духовно, и «светильникам веры». Исследовательница так определяет первый тип:
Люди, которых страдание в условиях заключения заставляет обратить свой взор вглубь своей души, к Богу, задуматься о вечном. Это те, кто раньше жил рассеянной жизнью, не думая о смысле своей жизни, как, например, О. В. Волков, Б. Н. Ширяев, <…> Д. С. Лихачев, пройдя через горнило страданий, близость смерти, восходят на более высокий уровень развития души [4, 158].
Идти дальше по пути духовного развития этим героям помогает общение с подвижниками веры, которые относятся к наивысшему нравственно-психологическому типу — «светильников веры», праведников. Они принимают страдания не только мужественно, но безропотно и благодушно, чувствуя великую помощь Божию и видя в скорбях очищающую силу. А. Н. Ефимова отмечает, что «светильников веры» от других заключенных отличает внутреннее спокойствие, исходящая от них радость, умение поддержать добрым словом других заключенных, общение с ними меняет мировоззрение и «жизнь кажется светлее» [3, 10]. К этой группе исследовательница относит, в первую очередь, священнослужителей, отбывавших срок на Соловках, — например, Илариона Троицкого и святителя Луку (Войно-Ясенецкого) [4, 158–159]. Также к этой группе можно отнести образ вятского епископа Виктора (Островидо-ва), которого Волков в романе «Погружение во тьму» выделяет в галерее персонажей-священнослужителей, говорит о нем как о выдающемся, стойком человеке, наделенном душевной теплотой и умением утешать, вселять надежду (см. подробнее: [16]).
В романе Волкова наряду с прославленными священнослужителями к подвижникам веры примыкают и простые верующие: старцы-священники, православные девушки, истощенные, измученные сектанты. На фоне физической немощи еще ощутимее проявляется их нравственная сила:
…эти несчастные «христосики» — темные по знаньям, но светлые по своей вере, недосягаемо вознесенные ею. Замученные и осмеянные, хилые, но способные принять смерть за свои убеждения (68).
Всех их отличает стойкость, внутреннее достоинство, способность любить и сострадать. Именно милосердие «таких безвестных и немощных маленьких людей <…>, пытавшихся помочь и спасти, когда и самим было впору искать путей спасения» (249), становится в художественной системе Волкова мерилом нравственной ценности человека.
Советская мораль отринула сострадание как ненужное в социалистическом обществе чувство, и этим, по мысли писателя, система сама обрекла себя на гибель:
Проповедовались классовая ненависть и непреклонность. Поощрялись донос и предательство. Высмеивались «добренькие». Были поставлены вне закона терпимость к чужим мнениям, человеческое сочувствие и мягкосердечие. Началось погружение в пучину бездуховности, подтачивание и разрушение нравственных устоев общества. Их должны были заменить нормы и законы классовой борьбы, открывшие путь человеконенавистническим теориям, породившим фашизм, плевелы зоологического национализма, расистские лозунги, залившие кровью страницы истории XX века (10–11).
Незадолго до смерти Волков утверждал: «Все жестокости общества — это результат долговременного воспитания людей в духе решимости, неумолимости» 3 .
В повествовании неоднократно противопоставляются «пролетарская» мораль и христианская нравственность:
Совесть и представление о грехе и греховности сделались отжившими понятиями. Нормы морали заменили милиционеры. Стали жить под заманивающими лживыми вывесками. И привыкли к ним. Даже полюбили. Настолько, что смутьянами и врагами почитаются те, кто, стремясь к истине, взывает к сердцу и разуму, смущая тем придавивший страну стойловый покой (11).
В романе приводятся свидетельства того, что истинно верующие люди оказывались изгоями в тоталитарном обществе. Как исключительный случай воспринимается автором судьба Преосвященного Луки, епископа самаркандского и одновременно известного хирурга профессора Войно-Ясенецкого, которому удалось и в государственной больнице исполнять православные обычаи и обряды. От преследований советской власти епископа уберегло его мастерство хирурга.
Такие традиционные христианские добродетели, как любовь к ближнему, сострадание, милосердие, совесть, истина, в современном автору мире оказались вне закона. Их заменили бдительность, непримиримость, нетерпимость к классовым и идеологическим врагам, жестокость. Более того, государство требовало от граждан нарушения библейских заповедей — лжесвидетельств, убийств, предательства родителей; человек нового общества был обязан помогать органам НКВД формировать многочисленные «дела», требовать смерти для обвиненных, ликовать при вынесении смертного приговора, отрекаться от родителей, объявленных «врагами народа».
Символом забвения веры становится в романе «Погружение во тьму» пустая церковь, в которой теплится лишь несколько лампадок, готовых погаснуть от легкого дуновения ветра:
От мириадов свечей православной церкви осталось гореть всего несколько бессильных огоньков… (147).
В разоренных церквях собираются на тайные богослужения последние немногочисленные верующие, каждую минуту опасаясь ареста. Подвигом веры в условиях лагеря становится для священнослужителей исполнение своего долга, а для простых мирян — смелость прийти на службу. Тайные богослужения были поддержкой для запуганных людей. Волков описывает одну из таких служб в Соловецком лагере:
Там, на небольшой полянке, укрытой молодыми соснами, собиралась кучка верующих. Приносились хранившиеся с великой опаской у надежных и бесстрашных людей антиминс и потребная для службы утварь. Отец Иоанн надевал епитрахиль и фелонь, мятую и вытертую, и начинал вполголоса. Возгласия и тихое пение нашего робкого хора уносились к пустому северному небу; их поглощала обступившая мшарину чаща…
Страшно было попасть в засаду, мерещились выскакивающие из-за деревьев вохровцы — и мы стремились уйти всеми помыслами к горним заступникам. И, бывало, удавалось отрешиться от гнетущих забот. Тогда сердце полнилось благостным миром, и в каждом человеке прозревался брат во Христе (9).
Православная церковь в романе предстает оплотом добродетели. Упадок нравственности в обществе автор связывает с гонениями на религию:
Борьба с церковью привела к падению нравственности, добрых, братолюбивых чувств. Христианские добродетели вытравлялись всеми силами. В людях развивались корысть, жажда материальных благ, не умеряемая никакими этическими соображениями. «Посеешь ветер — пожнешь бурю»… В этих словах Священного Писания — истина. Нельзя безнаказанно отрешать народ от добродетелей4.
Нравственность хранят верующие. Один из наиболее ярких примеров подвижнического поведения — судьба Ксении, дочери известного московского протоиерея Николая Писканов-ского, преследуемого властью. Девушка «не знала покойного, безопасного времени». На ее долю выпало немало испытаний: рано потеряв мать, она нянчила младшего брата, носила передачи отцу в тюрьму, навещала его в ссылке. Несмотря на пережитые беды, Ксения не утратила способности радоваться жизни, верить в добро и утешать других. Один ее вид вселял в людей надежду. Не будучи красавицей от природы, девушка будто светилась, а ее лицо, «чистое, юное и доброе», улыбалось. Внешняя некрасивость Ксении становилась незаметной — такова была «сила присущего ее лицу выражения. Выражения высшей человечности» (263–264).
Часто женщины оказываются нравственно выше мужчин. Воспитанные в одной семье брат и сестра Самарины занимают противоположные нравственные позиции: у Юрия «не было и сотой доли спокойного мужества сестры», из страха он становится осведомителем; Лиза же «едва не с пятнадцати лет взялась за полные тягот и опасностей обязанности связной. С монашками из разогнанных монастырей и верующими женщинами стала ездить по России с одеждой и деньгами, тайно жертвуемыми заточенным и сосланным духовным лицам. И — по стопам воспетых русских женщин — последовала за отцом в якутскую ссылку» (84).
В образах женщин-подвижниц автор видит опору нравственности и будущего духовного возрождения страны. Их сострадание и мужество разрушали «воздвигнутую систему насилия» и помогали «разобраться в удушливом тумане напущенной лжи»:
Такие девушки, верующие, самоотверженные, бросали вызов самой сути порядков, опровергали идеологию власти. И при всей своей смиренности и слабости они составляли невидимый становой хребет сопротивления отлучению народа от нравственных устоев. Их пособничество «врагам народа» не только помогало кому-то выжить и спастись, но и оказывало свое тайное действие примера и укора малодушным. Им боялись подражать, но пример их запоминался.
-
<…> Поповна Ксения и Лиза Самарина, тысячи и тысячи других верующих русских женщин были светом и истиной в непроглядной ночи ленинско-сталинских гонений. И если России суждено когда-нибудь возродиться — в основании ее будет и подвиг этих православных подвижниц (264).
Таким образом, по мнению Волкова, в основе любого политического и социального устройства должны лежать непреложные евангельские истины, определяющие нравственные законы социума:
Если и оспаривалось в разные времена право Церкви на власть в мире и преследование инакомыслия, то никакие государственные установления, социальные реформы и теории никогда не посягали на изначальные христианские добродетели. Религия и духовенство отменялись и распинались — евангельские истины оставались неколебимыми (10).
Для писателя возрождение России возможно только при условии духовного преображения нации, которая должна отказаться от ложной морали и вновь следовать евангельским истинам. Решающая роль в этом преображении принадлежит сообществу верующих как оплоту христианских добродетелей. Его могущество не в количестве последователей, а в их духовной силе, способности вдохновлять и созидать. Устами ссыльного епископа Иллариона Волков выражает мысль о стойкости:
-
— Без этой веры жить нельзя. Пусть сохранятся хоть крошечные, еле светящиеся огоньки — когда-нибудь от них все пойдет вновь (90).
Е. Гладкова справедливо заметила: «Хождение по кругам ада сталинских лагерей — это, конечно, “погружение во тьму”. Но авторский взор различает во тьме Соловецкого лагеря сияние и святыни, и подвига современных ему мучеников» [2, 179]. Об этой силе света в книге Волкова пишет Н. Крупина:
…погружаясь во тьму жизни, а вернее — во тьму смерти, о которой поведал писатель, заражаешься силой его духа, волей автора. От страницы к странице ты, как это ни кажется невероятным, совершаешь восхождение к свету: тебе открывается смысл истинного подвижничества, жертвенности. Этот смысл для автора и дорогих его сердцу героев в любви к Богу, к людям, к жизни, какой бы трудной она ни была, в стремлении сохранить в себе человека даже на самом мученическом пути, творить добро, даже когда оставляют последние силы [6, 57].
Эпоху гонений на Церковь и верующих Волков оценивает как крестный путь народа, ведущий через страдания к духовному очищению. Эту же идею высказывает один из героев «Погружения во тьму» — ссыльный священник Михаил Ми-троцкий:
Ниспосланное испытание укрепит веру. Слабые и малодушные отпадут. Зато те, кто останется, будут ее опорой, какой были мученики первых веков (77).
В поздних суждениях Волков связывал духовное возрождение нации с усилением влияния верующих людей:
Сейчас создались условия, при которых они могут увлечь своим примером и призывами слепых и спящих — всеми способами расшатывать чудовищное нагромождение зла и лжи, порожденных 70-ю годами царствования насилия и невежества. <…> И мне, обнадеженному личной судьбой, хочется думать: пришло время нашему народу сойти с крестного пути и обрести вновь Бога, Любовь и Свободу5.
По мнению писателя, для того чтобы восстановить евангельские заповеди в народном сознании, «нужно очень последовательно и умело, отбросив диктат и прибегая к сердечному слову, славить и возвеличивать породившие эти понятия христианское человеколюбие и проповедь добра» 6 . Отсюда тот нравственно-философский накал, сила противостояния и вера в торжество добродетели, которые отличают роман Волкова.
Таким образом, евангельские заповеди в романе Волкова «Погружение во тьму» являются мерилом духовно-нравственных качеств личности и одновременно основой рационального политического и социального устройства. В условиях тоталитарного общества, в обстоятельствах несвободы происходит регрессивная нравственная трансформация, противостоять которой можно, только прибегнув к вере. Оплотом христианских добродетелей в романе становятся праведники: священники, верующие, люди, которых страдание нравственно возвышает, заставляет обратиться к Богу. Трагедия современного общества, по мысли писателя, состоит в том, что праведники вытеснены из социума, подвержены гонениям и насмешкам. Однако автор высказывает надежду на будущее духовное возрождение государства, трактуя современное забвение духовных основ как временное помрачение сознания, тьму, ведущую к свету. Возможность «одолимости зла» Волков утверждает в образах праведников, противопоставивших «затопившему мир злу» милосердие. Пробуждение милосердия, доброты к ближнему в душах отдельных людей — первая ступень к возведению христианских истин в ранг основных законов социального и политического устройства.
EVANGELICAL COUNSELS
IN THE MATERIALISTIC SOCIETY (BASED ON OLEG VOLKOV’S NOVEL “SINKING INTO DARKNESS”)
Materials of the International Scientific and Practical Conference ]. Cheboksary, Tsentr nauchnogo sotrudnichestva “Interaktiv plyus” Publ., 2015, pp. 275–279. (In Russ.)
Дата поступления в редакцию: 18.08.2017
Список литературы Евангельские добродетели в бездуховном социуме (роман О. В. Волкова "Погружение во тьму")
- Васильева О. В. Эволюция лагерной темы и ее влияние на русскую литературу 50-80-х годов//Вестник Санкт-Петербургского университета. -Сер. 2. -1996. -Вып. 4. -С. 54-63.
- Гладкова Е. В. Символика света в изображении Соловков//Вестник Пермского государственного университета. -2011. -Вып. 3 (15). -C. 175-180.
- Ефимова А. Н. Образы подвижников веры в автобиографической лагерной прозе XX века//Научный вестник Крыма. -2017. -№ 5 (10). -С. 1-11.
- Ефимова А. Н. Типология личностей в лагерной прозе Б. Н. Ширяева, О. В. Волкова, Д. С. Лихачева//Культура и цивилизация. -2016. -№ 2. -С. 155-163.
- Казак В. Волков//Лексикон русской литературы XX века. -М.: РИК «Культура», 1996. -С. 85.
- Крупина Л. Н. «Я живу, чтобы свидетельствовать!»//Крупина Л. Н., Соснина Н. А. Сопричастность времени: кн. для учителя. -М., 1992. -С. 57-59.
- Малова Ю. В. Становление и развитие «лагерной прозы» в русской литературе XIX-XX вв.: дис.. канд. филол. наук. -Саранск, 2003. -236 с.
- Маршкова Т. Сквозь век пронес он дух великоросса//Волков О. Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья . -URL: https://bookz.ru/authors/oleg-volkov/moskva-d_160/1-moskva-d_160.html (15.06.2017).
- Минералов А. Ю. «Каторжно-лагерная» сюжетно-образная традиция в русской прозе XX века//Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. -2012. -№ 18. -С. 106-112.
- Петелин В. В. Лагерная литература. Погружение во тьму в поисках света//Петелин В. В. История русской литературы XX века (1953-1993). -М.: Центрполиграф, 2013. -Т. II. -С. 142-151.
- Сафронов А. В. После «Архипелага» (поэтика лагерной прозы конца XX века)//Вестник Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. -2013. -№ 3 (40). -С. 139-154.
- Сохряков Ю. И. Нравственные уроки «лагерной прозы»//Москва. -1993. -№ 1. -С. 175-183.
- Старикова Л. С. «Лагерная проза» в контексте русской литературы XX века: понятие, границы, специфика//Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. -2015. -№ 2-4 (62). -С. 169-174.
- Тимофеев Л. И. Поэтика «лагерной прозы»//Октябрь. -1991. -№ 1. -С. 182-195.
- Чотчаева М. Ю. Произведения «о каторге и ссылке» как памятник человеческой несвободе//Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 13 дек. 2015 г.)/редкол.: О. Н. Широков . -Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. -С. 275-279.
- Юферева Я. А. Вятский епископ Виктор Островидов в воспоминаниях О. Волкова (период заключения в Соловецком лагере особого назначения, 1928-1929 гг.)//Региональная литература: проблемы изучения и функционирования: сборник материалов/сост. и науч. ред. Е. О. Галицких, В. А. Поздеев. -Киров, 2017. -С. 86-91.