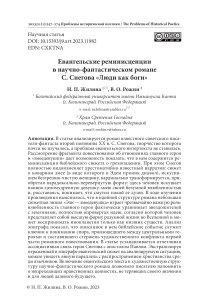Евангельские реминисценции в научно-фантастическом романе С. Снегова «Люди как боги»
Автор: Жилина Наталья Павловна, Рожин Владимир Олегович
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется роман известного советского писателя-фантаста второй половины XX века С. Снегова, творчество которого почти не изучалось, а проблема евангельского интертекста не ставилась. Рассмотрение фрагмента повествования об отношениях главного героя и «змеедевушки» дает возможность показать, что в нем содержится реминисценция библейского сюжета о грехопадении. При этом Снегов полностью видоизменяет хрестоматийно известный нарратив: сюжет о коварном змее (в виде которого в Эдем проник диавол), искусившем безгрешно-чистую женщину, кардинально трансформируется, приобретая парадоксально-перевернутую форму: здесь человек искушает наивно-целомудренную девушку-змею своей безумной влюбленностью и, расставаясь, понимает, что смутил покой ее души. В ходе изучения произведения выяснилось, что в идейной структуре романа небольшая сюжетная линия Эли - змеедевушка играет чрезвычайно важную роль: влюбленность главного героя фактически уравнивает звездожителей с землянами, полностью опровергая идею, согласно которой человек представляет собой высшую форму разумной жизни во Вселенной и может воспринимать инопланетян только как низшие существа. Анализ эпиграфа показал, что описанное в нем библейское событие служит ключом к пониманию спора, произошедшего между центральными героями и составившего стержень художественного конфликта первой части романного повествования. В статье устанавливается отчетливая ассоциативная связь героя Снегова с апостолом Павлом. Экстраполируя отраженный в эпиграфе евангельский сюжет на анализируемую ситуацию, можно увидеть явную параллель с распространением христианства среди язычников. Включение евангельского текста в художественную структуру научно-фантастического романа позволило писателю напомнить о непреходящих нравственных ценностях, не теряющих своего значения и для людей далекого будущего.
Снегов, люди как боги, человек, боги, эли, змеедевушка, христианский дискурс, евангельские реминисценции, эпиграф, петр астролог
Короткий адрес: https://sciup.org/147239850
IDR: 147239850 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.11982
Текст научной статьи Евангельские реминисценции в научно-фантастическом романе С. Снегова «Люди как боги»
И звестный советский писатель второй половины XX в.
Сергей Александрович Снегов (1910–1994) прошел трудный жизненный путь, в котором отразился определенный период истории нашей страны. Талантливый физик, увлеченно занимавшийся также и философией, он был арестован в 1936 г., осужден по политической статье на 10 лет исправительно-трудовых лагерей и отправлен на Соловки, а затем перемещен в Норильск, где и остался жить после освобождения в июле 1945 г. Переехав в 1956 г. после реабилитации в Калининград, он целиком посвятил себя писательскому делу: небольшие рассказы биографического характера сменились научно-фантастическими произведениями, из которых настоящую известность ему принесла трилогия «Люди как боги». В 1984 г. ее первый том — «Галактическая разведка» — был удостоен литературной премии «Аэлита». В дальнейшем вся книга была переведена на многие языки и принесла писателю мировую славу. Произведения Сергея Снегова занимают значительное место в литературном процессе, однако его творчество почти не изучалось — известно лишь несколько работ, в основном критических (см.: [Волгина], [Гильманов], [Горбачева], [Дарьялов], [Зверева], [Мальцев], [Минакова], [Оралбе-ков], [Сухова]).
Научно-фантастическая трилогия «Люди как боги» посвящена изображению событий, происходящих на планете Земля приблизительно в XXVI в. н. э. Читатель знакомится с человеческим обществом, достигшим высочайшего уровня технического развития, где любому землянину обеспечены все материальные блага и комфортное существование. Этот социум характеризуется также полным отсутствием национальных, этнических, расовых и религиозных различий. По этой причине обитатели планеты забыли о войнах и какой-либо вражде. Социальное согласие коррелируется у землян со стремлением к идейной сплоченности и нравственному совершенствованию, что должно способствовать достижению полной гармонии. Именно в этот период человечество сталкивается с неожиданными и серьезными проблемами в связи с обнаружением в далекой Галактике неизвестных могущественных инопланетян, деятельность которых имеет страшный разрушительный характер. Вопрос об оказании помощи неизвестной инопланетной цивилизации вызывает яростный спор между центральными героями романа, раскрывая их жизненные позиции и нравственные принципы. Так в общих чертах можно представить событийное ядро первой книги романа, ставшей объектом внимания в настоящей работе. В трилогии Снегова религиозный дискурс обозначен достаточно явно, библейский текст представлен в большом объеме, поэтому его полный анализ не мог стать задачей одной статьи. В связи с этим рассмотрению подлежит первая часть романа, насыщенная евангельскими реминисценциями в большей степени, чем другие.
Как показывает Снегов, с началом эпохи великих космических открытий человечество будущего перешло в новую, более высокую стадию своего развития и оказалось перед проблемой взаимодействия с представителями инопланетных цивилизаций. Герой-повествователь Эли Гамазин вспоминает, что земляне уже давно вынашивали мысль о создании «Межзвездного Союза Разумных Существ нашего уголка Галактики»1. Для непосредственного знакомства с такими существами была организована межзвездная конференция на одной из искусственных планет. Необычность и разно образие звезд ожителей поразили землян. Ранее, во время
Евангельские реминисценции в научно-фантастическом… 261 одной из экспедиций, люди допустили ошибку, не распознав «мыслящие мхи» (7). Это произошло следующим образом:
«На второй из трех планет Проциона не хватало света и тепла, и скалы покрывал рыжий мох. Астронавты ходили по мхам, изучали их приборами, но нашли лишь, что от растений исходят слабые магнитные волны. А когда экспедиция возвратилась на Землю, Большая Академическая Машина расшифровала, что записанные излучения — речь. Удалось разобрать предложения: "Кто вы такие? Откуда? Как вы развили в себе способность передвижения?"
Неподвижные мхи больше всего поразило человеческое искусство ходьбы» (7).
После этого случая стало понятно, насколько скудны познания людей в этой области. Тем больше внимания было теперь уделено представителям различных цивилизаций, вызывающим удивление, а порой и отвращение у землян.
Один из участников экспедиции на звезду под названием «Пламенная В» рассказал о крылатых существах, которые населяли ее планеты: они были названы ангелами по внешнему сходству, но поведение их полностью противоречило этому определению:
«Все ангелы вспыльчивы и драчливы, без потасовок у них редко обходится. Нам показали одну такую стычку — пух с крыльев заволок все как туманом, а клекот был так громок, что звенело в ушах» (39).
При близком знакомстве негативное впечатление усилилось:
«В ангелах есть что-то, внушающее неприязнь. Внешне они импозантны, даже величественны, — белое тело, золотые волосы, широкие мощные крылья, причудливо окрашенные: розовые, фиолетовые, оранжевые, даже черные, особенно среди четырехкрылых, чаще же всего — разноцветные. Зато лица ангелов грубы. Я не встретил ни в тот день, ни после ангела без морщин, морщинисты даже молодые, — каждый кажется состарившимся ребенком. Впечатление это усиливается еще и оттого, что они галдят и носятся, как расшалившиеся дети. К тому же, ангелы редко моются» (68).
Они распространяли такой запах, что трудно было дышать, и земляне старались держаться от них подальше.
Людям трудно было представить, что обитатели Капеллы и Альдебарана — «существа, похожие на земных бегемотов» (61), с целым поясом глаз на боках — способны внятно рассуждать и обладают высоким разумом. Но еще более странными выглядели альтаирцы:
«Это были, несомненно, живые существа, но они смахивали на призраков: не то гигантские пауки на тонких ножках, не то шары с жесткими волосиками. Они отталкивались от пола ногами-волосиками и скоплялись вокруг нас: мы были окружены облаком таких существ» (62).
После знакомства с паукоподобными делегатов конференции пригласили «к мыслящим змеям с планетной системы Веги» (64). Главный герой воспринял это как настоящее испытание, переступил порог с «нехорошим чувством» и «внутренне сжался перед встречей с ползучими гадами» (64), представляя их такими, какими видел на Земле. Однако произошло невероятное: по его признанию, встреча с вегажите-лями обозначила перелом в его душе — «от примитивного человеческого эгоизма к ощущению единства мира» (64). Как вспоминает сам герой, неожиданно в сумеречном саду он увидел «человеческое лицо, необыкновенное лицо, прекрасней всех человеческих! Я оглянулся. Такие же лица смотрели и сбоку, и сзади. Нас окружили существа, до того великолепно похожие на людей, что мне захотелось закричать от испуга и восхищения. Да, конечно, у них было туловище, похожее на змеиное, очень гибкое, но человеческое лицо и руки, чуть лишь покороче и потоньше наших, свидетельствовали, что они все-таки не змеи. <…> Самое необыкновенное у ве-гажителей — их глаза. Глаза вспыхивали и погасали, они меняли свой цвет. Это были огни, а не глаза. Жители Веги разговаривают сиянием своих глаз!» (64–65). Одна из вегажи-тельниц показалась Эли прекрасней других, и он спросил, как ее зовут:
«Она пропела свое имя нежным голосом, напоминавшим флейту. Чтобы повторить, что она произнесла, нужны ноты, а не буквы. Одновременно глаза ее озарились фиолетовым пламенем. Я воскликнул:
— Фиола! Я понял, вас зовут Фиола!» (65).
Впечатление, произведенное вегажительницей, оказалось столь сильным, что герой никак не хотел с ней расставаться и попросил у организатора разрешения позже прийти к ней в гостиницу уже одному.
Отчетливо видно, что фрагмент повествования, в котором описана история отношений Эли и змеедевушки, организован как вставная новелла, представляющая собой реминисценцию библейского сюжета о грехопадении — напоминанием об этом звучит шутка персонажа по имени Павел Ромеро, заметившего, как и другие, какое впечатление произвела Фиола на его друга:
«В древних преданиях змей искусил прародительницу людей, некую Еву. Бедный Эли, кажется, дал обольстить себя коварной и красочной змее» (67).
Однако дальнейшее развитие событий опровергает предположение о коварной змее-обольстительнице: доминантой натуры «мыслящих змей» оказывается искренность, а не замутненное бурными страстями сознание коренным образом отличает их от землян. Душевные движения вегажителей подчиняются исключительно разуму, и поступки людей, лишенные видимой логики, для них непонятны, что Фиола и пытается объяснить Эли.
В процессе общения с вегажителями Эли начинает понимать, что, лишенные тех качеств, которые имеют люди, они, в свою очередь, обладают иными способностями: так, отсутствие человеческой речи они восполняют звуко-цветовыми сигналами, сопровождая мелодию постоянно меняющимся светом, исходящим от собственного тела. Контактируя с Фио-лой, Эли открывает в ней, помимо поразительной красоты, еще и высокоразвитый интеллект и тонкую душевную организацию: змеедевушка не только очень быстро осваивает язык землян, участвуя в беседе уже без дешифратора, но и обнаруживает глубокое понимание человеческой психологии. Так, характеризуя людей как вид, Фиола подчеркивает их могущество и доброту, но обращает внимание и на их недостатки. Благодаря этим беседам герою открывается важнейшее психологическое различие между землянами и вегажителями: последним были чужды людские страсти, самолюбие и тщеславие не мучили их, но было совершенно незнакомо и чувство влюбленности. Невероятным казалось им состояние любовной страсти, охватывающее человека независимо от его желания, подчиняющее себе все его существо и порой доводящее до безумия. Фиола объяснила: «У нас каждый относится ко всем одинаково дружелюбно». А затем сочувственно добавила: «Бедные! Вы, очевидно, проклинаете все на свете, когда на вас сваливается такое несчастье, как любовь?» (90). Драматизм ситуации для Эли заключался в том, что, не зная чувства влюбленности, вегажители не испытывали и телесного влечения.
Используя хрестоматийно известный нарратив, Снегов полностью видоизменяет его: сюжет о коварном змее (в виде которого в Эдем проник диавол), искусившем безгрешно-чистую женщину, кардинально трансформируется, приобретая парадоксально-перевернутую форму — теперь уже человек искушает наивно-целомудренную девушку-змею своей безумной влюбленностью и с грустью понимает, что смутил покой ее души:
«Она напряженно вслушивалась в мои слова. Я знал, что она потом будет повторять их про себя, будет стараться проникнуть в темный их смысл. Мне стало стыдно. Зачем я вношу человеческое смятение в спокойную душу далекого от людей существа? Зачем прививаю ей мучительную культуру наших страстей? Она постигнет лишь наши тревоги и страдания, наслажденье и счастье наше ей узнать не дано. В смятении и тоске она будет кружиться в своих глухих садах, будет призывать меня пением и светом: "Эли! Эли!" Зачем?» (91).
Осознавая, что их с Фиолой любовь обречена, совместное будущее невозможно, они расстаются навсегда, главный герой принимает эту данность со смирением и больше никогда не подумает потревожить душевный покой вегажительницы,
Евангельские реминисценции в научно-фантастическом… 265 которая с этого момента исчезает и из событийного поля романа.
В идейной структуре произведения небольшая сюжетная линия Эли — змеедевушка играет чрезвычайно важную роль: влюбленность главного героя в Фиолу фактически уравнивает звездожителей с землянами, полностью опровергая идею Павла Ромеро, согласно которой «человек — высшая форма разумной жизни». Он может воспринимать инопланетян только как «полуживотных, моральных и физических уродцев» (71–72). Заметим, что в нарративе Снегова совершенно отсутствует мотив, составляющий идейную и семантическую основу данного библейского сюжета. Предлагая вкусить плода с древа познания добра и зла, змей обещал: «будете как боги» (Быт. 3:5), — имея в виду обретение первыми людьми полной власти над миром. Последствиями же нарушения Божьего запрета стали, как известно, поврежденность человеческой природы и изгнание из рая. Земляне же Снегова не стремятся к высшей власти и тем более никого не искушают этой идеей.
Одна из центральных героинь романа — старшая сестра Эли Вера — в разговоре с ним излагает свои мысли о том, как должны строиться взаимоотношения между людьми и звез-дожителями. По ее представлению, земляне должны взять на себя новые обязанности, возникшие благодаря обнаружению иных форм жизни во Вселенной. Героиня предлагает руководствоваться в своих действиях идеей всеобщей помощи, главная суть которой состоит в том, чтобы проявлять доброе участие ко всем звездожителям, даже вызывающим у людей крайне неприязненное чувство своим внешним видом и поведением. Нужно подчеркнуть, что Вера не просто предлагает расширить географические границы человечества. Она фактически выдвигает новую идею: отменить существовавшую столетиями оппозицию свой / чужой, признать братство всех обитателей безграничной Вселенной и строить взаимодействие с ними, имея краеугольным камнем идею добра: сильный оказывает помощь слабому, здоровый — немощному и т. п., причем такое отношение со стороны землян должно быть обусловлено исключительно чувствами, но никак не прагматическим подходом и мотивацией выгоды. Оппонентом Веры выступает Павел Ромеро, который считает, что интересы людей должны ставиться выше такого «благотворитель-ства» (72), и иронически называет единомышленников Веры «апостолами всеобщей помощи» (99).
«Апостол» в прямом значении — слово библейское: так в Евангелии именуются ученики Иисуса Христа. В переводе с греческого «апостол» означает «посланник»2 — таким образом, героев романа, отправляющихся в космос для оказания помощи нуждающимся инопланетянам, следует воспринимать как «посланников». В таком случае возникает вопрос: чьими посланниками они являются? Если в тексте Евангелия мы находим, что Спаситель посылает Своих учеников в различные города и селения проповедовать Его учение, то в романе «Люди как боги» группу землян фактически уполномочивает все человечество в его единстве и целостности проявить заботу о более слабых и менее развитых. Напрашивающуюся параллель с евангельским сюжетом подкрепляет эпиграф к этой части романа, в функции которого используется фрагмент стихотворения известного революционера Николая Морозова «Петр Астролог» (1918):
«Из Фраскатти в старый Рим Вышел Петр Астролог.
Свод небес висел над ним, Будто черный полог.
Он глядел туда, во тьму, Со своей равнины.
И мерещились ему Странные картины.
Н. Морозов » (4).
Стихотворение «Петр Астролог» — это аллюзия на библейский текст из новозаветной книги «Деяния святых апостолов» (Деян. 10: 9–16), которая служит тематическим продолжением евангельского повествования. «Деяния» посвящены жизни и деятельности учеников Иисуса Христа после Его вознесения на небо. Суть служения апостолов заключалась в проповеди о даровании спасения (избавления от греха, проклятия и смерти) человечеству воплотившимся Богом Иисусом Христом. Для осуществления этой задачи апостолы разошлись по дальним уголкам территории Римской империи, которая была заселена различными народами, относившимися в основном к языческому миру, исповедующему многобожие, — в отличие от иудейской цивилизации, представляющей собой мир монотеистической религии.
Для апостола Петра, который в Православной Церкви именуется Первоверховным3, то есть одним из самых значимых и почитаемых, много послуживших для распространения христианства4, проповедь среди язычников стала серьезным испытанием в силу сложившихся к тому времени культурных реалий. Необходимо пояснить, что распространение ветхозаветной монотеистической религии израильтян в основном было ограничено пределами богоизбранного народа, что давало повод его представителям считать себя особенными, избранными, как бы выше всех других народов. Такое мировосприятие евреев к моменту пришествия Иисуса Христа было связано уже с особенностями их ментальности: они просто по умолчанию считали язычников «нечистыми» и, согласно ветхозаветному закону, не имели права на общение с ними. Этим, кстати, объясняется реакция других апостолов и прочих христиан, которые позже стали упрекать Петра за то, что он проповедовал язычникам (Деян. 11:1–3).
Чтобы убедить Петра в необходимости просвещения язычника Корнилия (сотника в римской армии), апостолу было явлено нечто сверхъестественное: «…он пришел в исступление и видит отверстое небо и сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю; в нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные» (Деян. 10:10–12). Согласно ветхозаветному закону, животные, которых увидел Петр, считались нечистыми, то есть непригодными для принятия в пищу с точки зрения соблюдения ритуальной чистоты. Но голос повелел апостолу заколоть их и съесть, объясняя это так: «что Бог очистил, того ты не почитай нечистым» (Деян. 10:15). Блаженный Августин объясняет это видение следующим образом: «Так все человечество с четырех сторон благодаря Троице призывается к вере»5, — четыре угла спустившегося сосуда христианский мыслитель понимает как четыре стороны света, то есть весь мир без исключения, к которому должна быть обращена апостольская проповедь. Святитель Иоанн Златоуст так толкует это место из книги Деяний: «Итак, плащаница — это земля; находившиеся в ней животные — язычники; слова: "заколи и ешь" — что должно обратиться и им; троекратное же повторение знаменует крещение»6. Известный дореволюционный богослов А. П. Лопухин в своем комментарии к исследуемому отрывку отмечает:
«Приобщение такого человека (сотника Корнилия. — Н. Ж., В. Р .) к Церкви Христовой, притом непосредственно, без всякого посредства иудейства, хотя бы в виде прозелитизма врат, было событием великой важности, эпохою в истории апостольской Церкви. На эту особую важность события первого обращения ко Христу язычника указывает и то, что оно совершается при посредстве первого апостола Христова Петра…»7.
«Эпиграф — ключ к общему смыслу произведения» [Бо-рев: 552], то есть в иерархической структуре компонентов художественного целого он наравне с заглавием занимает одно из самых важных положений. Этот текстовый элемент, являющий собой прямое и открытое авторское слово, требует к себе особого внимания. Таким образом, есть основания утверждать, что описанное библейское событие служит ключом к пониманию спора, произошедшего между двумя центральными героями и составившего стержень художественного конфликта первой части романного повествования. Экстраполируя евангельский сюжет, отраженный в эпиграфе, на анализируемую ситуацию, можно заметить явную параллель с распространением христианства среди язычников. Отчетливо видно, что героиня предлагает идею новой веры (отсюда и символический смысл ее имени), которая имеет несомненное внутреннее концептуальное родство с христианской философией.
Не являясь главной героиней, Вера тем не менее играет чрезвычайно важную роль в сюжетной структуре романа: она становится идейным генератором и вдохновителем миротворческой деятельности человеческой цивилизации на просторах Вселенной. Очень ярко функциональная роль этой героини проявляется в ее имени. Согласно словарю, Вера — это перевод греческого имени Pistis на русский язык8. Это имя полностью совпадает с названием одной из главных христианских добродетелей, наряду с надеждой и любовью. Эти имена носили, как известно, три дочери «благочестивой вдовы Софии», отказавшиеся по требованию императора Адриана (117–138) принести жертвы языческим богам и принявшие мучительную смерть за Христа9. Толковый словарь русского языка фиксирует несколько значений слова вера: 1. Твердая убежденность, уверенность в чем-либо, в исполнении чего-либо. 2. Состояние сознания, связанное с признанием существования Бога, убеждения в реальном существовании чего-либо сверхъестественного. 3. Доверие10. В словаре В. И. Даля это понятие имеет более широкое толкование: вера — 1. Уверенность, убеждение, твердое сознание, понятие о чем-либо, особенно о предметах высших, невещественных, духовных. 2. Верование; отсутствие всякого сомнения или колебания в бытии и существе Бога; безусловное признание истин, открытых Богом. 3. Совокупность учения, принятого народом, вероисповедание, исповедание, закон (Божий, церковный, духовный), религия, церковь, духовное братство. 4. Уверенность, твердая надежда, упование, ожидание. 5. Стар. клятва, присяга11. Как становится понятно в ходе событий, в наибольшей степени имени героини соответствует второе значение и в одном, и в другом словаре. Семантика имени Вера, таким образом, прочно связывает идейное пространство художественного произведения с основами христианского мировоззрения. Концепция всеобщей помощи (то есть доброе участие в жизни любого обитателя Космоса вместо сосредоточенности лишь на проблемах землян), которую предлагает Вера, может рассматриваться как новая религия взамен прежней, как новый этап в нравственном развитии человека — здесь прямая ассоциация с христианством, которое сменило иудаизм. Христианский мыслитель VI в. Иоанн Лествичник в труде по христианской аскетике под названием «Лествица» говорит о вере следующее: «По моему разумѣнію, вѣра подобна лучу… <она> можетъ творить и созидать…»12. Именно жизненной позицией Веры обозначаются контуры художественного конфликта романа, в основе которого лежит аксиологическое противостояние добра и зла. Убежденность героини, ее твердость в отстаивании своей позиции оказывают серьезное влияние не только на ее брата Эли, но и на такого стойкого идейного противника, как Павел Ромеро.
Павел и Вера — не только идейные антагонисты, их связывают непростые и серьезные отношения: дружба, а до разлада и любовь. Не понимая и не разделяя идеи всеобщего космического братства, отвергая восприятие любых инопланетных существ как своих «ближних», которым нужно оказывать помощь даже при возникшей угрозе для самого человечества, Ромеро вначале решительно противится позиции Веры и вынуж денно подчиняется лишь решению большинства.
Неожиданно обнаружив в этой ситуации негативные качества своей натуры, Павел Ромеро в дальнейшем раскрывается для читателя с совершенно иной стороны: в бою с врагами-разрушителями он проявляет настоящее мужество, способствуя победе землян. В ходе развития событий взгляды этого персонажа кардинально меняются: выступая сначала против масштабной деятельности человечества, развернутой в Космосе, Павел Ромеро затем меняет свою позицию, став непосредственным и активным участником оказания всеобщей апостольской помощи, а позже становится историографом космического флота землян. Таким образом, твердая уверенность в одной идее в ходе событий сменяется в сознании героя приверженностью другой, противоположной. Концепция всеобщей помощи — это своеобразная атеистическая «калька» христианской идеи братской любви к ближнему, то есть к любому человеку, не исключая и врагов. И личное имя героя эксплицирует связь с библейским апостолом Павлом, который из ревностного последователя иудейской религиозной традиции, враждебной христианскому исповеданию, стал одним из основных проповедников Евангелия. Фамилия героя (Ромеро — т. е. римский, римлянин) также подтверждает эту аллюзию: известно, что апостол Павел, несмотря на свое иудейское происхождение, имел права римского гражданина (Деян. 20:25).
Личное имя Павел в переводе с латыни означает малый 13. Глубинный смысл, заключенный в этом имени, можно понять не иначе как через призму новозаветной истории обращения апостола Павла. Новое имя Павел , согласно книге Деяний (Деян. 13:6–12), апостол получил вместо прежнего Савл в знак обращения им в христианскую веру римского проконсула по имени Сергий Павел. Это событие ознаменовало победу христианской проповеди в языческом мире. Новое имя апостола не только стало символом этой победы, но и имплицитно выражало такую черту Павла, как скромность, неслучайно он называет себя меньшим из апостолов (1 Кор. 15:9), не имеющим права называться учеником Христа из-за своей прежней деятельности в роли гонителя христиан. Этот ракурс дает возможность видеть отчетливую ассоциативную связь с героем
Снегова, кардинально изменившимся с течением времени. В начале событий Павел Ромеро выделяется из своего окружения и своим внешним видом, и манерой общения, сознательно моделируя свой образ как исключительной личности, однако в дальнейшем, испытав глубокий душевный переворот, он приходит к осознанию малости и ничтожности своих притязаний перед лицом той великой духовной брани, участниками которой стали они все.
Проведенный анализ реминисценций, использованных Сергеем Снеговым, приводит к выводу о том, что они играют важнейшую роль в художественной системе произведения, способствуя обнаружению скрытых, глубинных смыслов и помогая читателю более точно понять авторскую концепцию. Включение евангельского текста в художественную структуру научно-фантастического романа позволило писателю в атеистических условиях напомнить о непреходящих нравственных ценностях, важных не только в настоящем времени, но и не теряющих своего значения для людей далекого будущего.