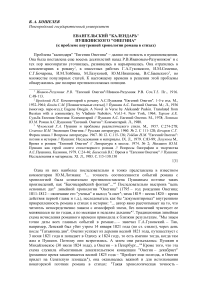Евангельский "календарь" пушкинского "Онегина" (к проблеме внутренней хронологии романа в стихах)
Автор: Кошелев В.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.3, 1994 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена культурная семантика понятия «календарь» в словаре А. Пушкина и его эпохи, где особую роль играла церковная традиция. Выявлена функция «календарной», циклической установки в организации художественного времени романа в стихах. Делается вывод, что основные события «Евгения Онегина» получают новое освещение в свете Евангельского календаря.
Евангелие, а.с.пушкин,
Короткий адрес: https://sciup.org/14749069
IDR: 14749069
Текст научной статьи Евангельский "календарь" пушкинского "Онегина" (к проблеме внутренней хронологии романа в стихах)
Проблема "календаря" "Евгения Онегина" – далеко не новость в пушкиноведении. Она была поставлена еще восемь десятилетий назад Р.В.Ивановым-Разумником1 и с тех пор многократно уточнялась, развивалась и варьировалась. Она отразилась в комментариях к роману2, в известных работах Г.А.Гуковского, И.М.Семенко, С.Г.Бочарова, И.М.Тойбина, М.Лазуковой, Ю.М.Никишова, В.С.Баевского3, во множестве популярных статей. К настоящему времени в решении этой проблемы обнаружились две полярно противоположных позиции.
___________ своеобразное нововведение Пушкина в литературе... Нет никакого сомнения в том, что этот принцип не причуда, не прихоть писателя: он выражает проясненный до конца и конкретизированный принцип историзма в понимании и изображении человека"7.
Вторая позиция наиболее последовательно отражена в известной статье В.С.Баевского. Представив серию логических "неувязок" подобного "календаря", дав множество остроумных наблюдений, исследователь пришел к выводу, что в романе существует "многоплановый образ времени", соответствующий пушкинской поэтике "противоречий", что автор воссоздает "динамичный образ эпохи 20-х годов без скрупулезной проработки всех деталей и без ограничения хронологии определенными календарными __________
-
4 Лотман Ю. М. Указ. соч. С.18.
-
5 Там же.
-
6 Гуковский Г.А. Указ. соч. С.275-276.
-
7 Там же. С.276-277.
датами начала и конца", а "время романа – не столько историческое, сколько культурно-историческое, вопросы же хронологии оказываются на периферии художественного зрения поэта"8.
Работа В.С.Баевского, получившая одобрительный резонанс, как бы "закрывала" эту проблему (отводя ее в обширную сферу популярного, "народного" пушкиноведения). Однако, думается, и в ней акценты расставлены достаточно зыбко. Что представляет собой "многоплановый образ времени"? чем отличается "историческое" время от "культурно-исторического"? стало ли романное время "Онегина" тем "нововведением Пушкина в литературе", которое знаменовало его новый принцип историзма? Пушкинская поэтика, вероятно, все-таки глубже этих аморфных определений.
Наконец, в данном случае никуда не уйти от того полушутливого пушкинского замечания, с которого все началось. Это – 17-е примечание к отдельному изданию "Онегина". Комментируя в 4-й строфе третьей главы стихи: "Они дорогой самой краткой / Домой летят во весь опор", Пушкин счел необходимым уточнить: "В прежнем издании, вместо домой летят, было ошибкою напечатано зимой летят (что не имело никакого смысла). Критики, того не разобрав, находили анахронизм в следующих строфах. Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю" (VI, 193)9.
Примечание это толкуется по-разному. Оно является отправным, существенным для представителей первой из указанных выше позиций: Пушкин-де прямо указывает на то, что романное и историческое время совпадают и каждое романное событие приурочено к конкретной дате. Сторонники второй позиции считают его попутным замечанием, в котором "поэт имел в виду не хронологию, а календарь природы, правильную, естественную смену времен года, циклическое движение времени, отражающее вечное обновление жизни"10, – замечание это, дескать, ограничивается указанием на опечатку, представившую зиму вместо лета, а "расчисление" времени "по календарю" ограничивается только "календарем природы". Последнее, впрочем, не отрицалось и в пределах первой позиции. "В романе последовательно, __________ неукоснительно и точно указываются смены времен года..." – писал Г.А.Гуковский11.
Об "онегинском" "календаре природы" – речь впереди. Вначале присмотримся к существу самой исходной пушкинской формулы: "...время расчислено по календарю". Она не так уж проста и однозначна, как кажется.
В ней два ключевых слова: календарь и время.
Слово "календарь", согласно "Словарю языка Пушкина", употреблено в его сочинениях 14 раз. Во всех случаях имеется в виду только конкретное значение: церковный, светский или литературный "ежегодник": "календарь осьмого года" у дяди Онегина (VI, 32); "придворный календарь" у отца Гринева (VIII, 370); "календарь" Бестужева – альманах "Полярная звезда" (XIII, 51); просьба прислать "всевозможные календари, кроме Придворного и Академического" в письме брату (XIII, 130) и т.д. Пушкин (и – шире – пушкинская эпоха) не знает "абстрактного" употребления этого слова: "календарь природы", календарь событий и т.д. Для него календарь – это просто книга определенного содержания, и только.
Слово "время" употреблено Пушкиным в шести основных и тринадцати оттеночных значениях. Основное, и самое частое, употребление этого слова зафиксировано в значении "длительность и последовательность бытия". Между тем это значение в словоупотреблении XIX века было предельно "размытым" – вот "расшифровка" понятия время в толковом словаре В.И.Даля: "...длительность бытия; пространство в бытии; последовательность существования; продолжение случаев, событий; дни за днями и века за веками, последовательное течение суток за сутками". Даль (в соответствии с представлениями XIX века) явно смешивает разные системы отсчета времени, каждая из которых давала свое, особое представление о временном течении.
Наиболее привычна для нас линейная форма измерения времени: "длительность бытия", "дни за днями и века за веками". Отсчет условных годовых циклов ведется в данном случае от какого-то момента в историческом прошлом (год основания Рима, год первой Олимпиады, год Хиждры у мусульман, Рождество Христово и т.п.). "Линейное" время исходит из представления о необратимости происходящих событий и предполагает некий "арифметический" счет: лет, дней, недель и т.д.
Более древним является циклический счет времени, который учитывает не временную необратимость, а временную повторяемость: повторяются суточный, месячный, годовой циклы; ___________
Предшествует слава и почесть беде, Ведь мира законы – трава на воде. Со временем блеск и величье умрут, Сравняются, сгладившись, башня и пруд. ----------------------------------------------- Я царскою дочерью прежде была, А ныне в орду кочевую зашла, Скитаясь без крова и ночью одной, Восторг и отчаянье были со мной. Превратность царит на земле искони, Примеры ты встретишь, куда ни взгляни, И песня, что пелась в былые года, Изгнанника сердце тревожит всегда".
"Здесь, – продолжает Л.Н.Гумилев, – время рассматривается как колебательное движение, а определенные отрезки группируются в зависимости от насыщенности событиями. Создаются большие "участки" времени, имеющие свои начала и концы. Китайцы и называли это одним легким словом – "превратность". Каждая "превратность" происходит в тот или иной час исторического времени и, начавшись, неизбежно кончается, сменяясь другой "превратностью". Вот такое-то ощущение дискретности (прерывности) времени помогает излагать и понимать течение исторических событий, их связи и последовательности"12.
Парадокс "художественного времени" вообще заключается в том, что оно воплощает все принятые системы отсчета и их нераздельности – как нераздельно существует в нашем бытии единое __________ весна 1825), – и комментаторам пришлось пойти на явные "линейные" ухищрения, чтобы свести концы с концами (дескать, "осьмнадцать лет" – это не возраст героя в первой главе, а время, "когда он покинул родительский кров", а 26 лет – это время, "когда Онегин после дуэли оставил свою деревню"13 – оба утверждения достаточно произвольны). Между тем данные хронологические указания нисколько не нарушают логики "абсолютного" времени, которая отнюдь не предполагает какой-либо изначальной "линейной" жесткости.
13 Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 20, 18.
Другой пример. В отличие от возраста Онегина, возраст Ленского достаточно устойчив: "Он пел поблеклый жизни цвет / Без малого в осьмнадцать лет" (VI, 35); "...пускай поэт / Дурачится; в осьмнадцать лет / Оно простительно..." (VI, 121) – последнее указание относится к Ленскому накануне гибели. Но эта устойчивость возрастного указания нисколько не помогает житейской логике устойчивости "линейного" счисления. В самом деле: за свои 18 лет Ленский успел, похоронив родителей (его отец упоминается в романе вместе с отцом Лариных – VI, 40), вступить во владение имениями и стать "помещиком новым" (VI, 33), что было невозможно по закону до исполнения 21 года. Кроме того, он успел поучиться в Геттингене (обыкновенный срок подобного учения был не менее четырех лет), стать "поклонником Канта и поэтом" (VI, 33), а до учебы, в отроческом возрасте, сговориться о женитьбе на Ольге. За несколько месяцев романного действия он успел подружиться с Онегиным, поучаствовать в длительных "спорах" и "размышлениях" и почти повенчаться с невестой после столь же длительных ухаживаний: его свадьба была назначена "чрез две недели" (VI, 94) после последнего разговора с Онегиным, то есть через неделю после именин Татьяны! Множество "нелинейных" событий, пришедшихся на долю бедного Ленского, заставляет усомниться и в однозначно "линейном" представлении об "осьмнадцати летах". И это опять-таки не конкретный пушкинский "недосмотр", а общий закон проявления художественного времени. Ибо гораздо чаще Пушкин обращается в романе именно к дискретному, "колебательному" времени – к нелинейной смене "превратностей", между которыми нет прямой преемственности. Вот два показательных примера.
Если рассматривать события, отраженные в первых главах "Онегина", с точки зрения "линейности" времени, то получается огромное, неправдоподобное нагромождение. Как указал автор в предисловии к первой главе, "она в себе заключает описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года..." (VI, 638). Следующая "линейная" точка, обычно употребляемая комментаторами, – 5 мая 1820 г. – время, когда Пушкин отбыл из Петербурга в южную ссылку ("Но скоро были мы судьбою / На долгий срок разведены..." – VI, 26). Между этими точками – 5-6 месяцев. "Именно в это время, – замечает В.С.Баевский, – Онегиным овладела хандра, ему надоели друзья и дружба, "причудницы большого света", красотки молодые, он попытался стать литератором и отказался от этого намерения, пристрастился к чтению и оставил его, собрался за границу, похоронил отца, распорядился оставленным им наследством, подружился и расстался с автором. Непосредственные читательские впечатления говорят нам, что этот трудный период жизни Онегина длится не месяцы, но годы"14.
Но ведь дальше – больше! Если принять за исходную точку то обстоятельство, что Онегин "расстался" с автором в начале мая 1820 года (каким-то образом успев погулять с ним по Петербургу во время белых ночей!), то дальнейшие события оказываются и вовсе "спрессованы" в 1-2 месяца. Ибо именно после расставания с автором Онегин похоронил отца и сумел рассчитаться с заимодавцами (что по закону опять-таки было невозможно: он имел право распоряжаться наследством не ранее чем через 40 дней после смерти родственника). Затем он "в пыли на почтовых" (VI, 5) "стремглав по почте поскакал" (VI, 27) в деревню к дяде, но "застал его уж на столе" и похоронил вслед за отцом. Далее он, как водится, стал "сельский житель" (VI, 27) ‒ тоже, между прочим, не менее чем через 40 дней! – и начал проводить серьезные хозяйственные преобразования, учредил "порядок новый" (VI, 32), заменив "ярем барщины" "оброком легким". Это предприятие тоже не могло быть осуществлено мгновенно: требовалось разрешение, по меньшей мере, губернского начальства. Но Онегин-таки провел его – и вызвал неудовольствие соседей, которые "сначала" к нему "езжали" (VI, 33) и лишь через некоторое время "дружбу прекратили с ним..." Он, вероятно, успел получить с крестьян этот самый "легкий" оброк, ибо завел в своем быту много вещей, у дяди отсутствовавших: "донского жеребца" (VI, 33), "свой кофе" и "плохой журнал" (VI, 89), "бильярд в два шара" (VI, 91), "Вдовы Клико или Моэта / Благословенное вино" (VI, 92) и т.д. У него явилась "белянка черноокая" (VI, 89) – вероятно, крепостная любовница. Затем Онегин подружился с Ленским, и споры с поэтом вошли в привычку. Наконец, он посетил вместе с другом Лариных – и Татьяна написала к нему письмо...
Настанет ночь; луна обходит Дозором дальный свод небес, И соловей во мгле древес Напевы звучные заводит (VI, 58).
А соловьи, как известно, прекращают пение в середине июня (по старому стилю). Для перечисленных выше событий (на которые тоже требуются годы) в романе времени не оставлено вовсе, если ограничиваться опять-таки "линейным" счетом, а не игрой "превратностей".
И так называемый "календарь природы" Пушкиным, в общем-то, не очень уж соблюдается. Вот замечание Г.А.Гуковского:
__________
В начале седьмой главы представлена "весенняя" картина того же памятника: "Там соловей, весны любовник, / Всю ночь поет; цветет шиповник..." (VI, 141). И оказывается, что этот "простой" памятник, "камень гробовой" (и когда только успели его поставить – зимой что ли?) – "Забыт. К нему привычный след / Заглох. Венка на ветви нет..." (VI, 142). Но в таком случае как же быть с предшествующей, "летней" картиной всеобщей памяти и сожаления? При "линейном" отношении к событиям оказывается совершенно бессмысленным и следующее указание:
Бывало, в поздние досуги
Сюда ходили две подруги, И на могиле при луне, Обнявшись, плакали оне (VI, 142).
Зимой что ли "плакали"? Ведь уже к весне одна из "подруг", бывшая невестой покойного, успела уехать с неким "уланом". А другая "подруга", Татьяна, за эти же несколько месяцев успела отказать, по крайней мере, трем женихам (VI, 150)! __________
-
15 Гуковский Г. А. Указ. соч. С.276.
Формально – событий здесь опять-таки не на месяцы: на годы! Но ни "месяцев", ни "годов" в данном линейном исчислении попросту не оказывается. Казалось бы, Пушкина эти "годы" просто не интересуют: "превратности" происходят вне хронологического счета.
Но в таком случае как быть с формулой: "...время расчислено по календарю"?
Календарное "расчисление" – это всегда, по существу, "расчисление" циклическое, рассчитанное на повторяющиеся временные изменения внутри какого-то отрезка бытия, – в данном случае года. Единственной книгой в доме невежественного дяди Онегина оказывается "календарь осьмого года" – устаревший, но тем не менее весьма полезный именно из-за установки этой книги на повторяемость общих знаменательных дат, праздников и т.д.
Эта "календарная", циклическая установка на повторяемость оказывается и основой временной организации романа в стихах "Евгений Онегин". Так, "двумя композиционными опорами произведения" становятся описанный в первой главе "день Онегина" и сопоставимый с ним "день автора", представленный в финале ("Отрывки из путешествия Онегина")16. Но элементы циклической повторяемости видим и на более длительных временных "срезах".
Характерно, например, что каждая перемена в романном действии обозначается неким "моментом перехода" в ежегодном состоянии природы:
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало... (VI, 89)
(формально еще продолжается лето, но оно уже являет некоторые приметы осени);
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа... (VI, 97)
(и далее – развернутый приход зимы и особенно волнующий первый день этой перемены);
Дни мчались; в воздухе нагретом
Уж разрешалася зима... (VI, 184) (курсив мой. – В.К.) (опять-таки: уже не зима – но еще не весна!). ___________
1983. С. 6 – 34.
С этими "моментами перехода" связаны и те основные "узлы" романного действия, которые Пушкин удостаивает подробным описанием. Причем – отметим – сопоставимые события представлены в сопоставимых временах года. Вот подробно описанное праздничное собрание гостей. В романе представлены три бала и один "светский раут". Все они происходят в разгар зимы – в январе: случайно ли это? Почему в одном случае деревенское торжество описывается в двух строках ("Попы и гости ели, пили, / И после важно разошлись... " – VI, 27), а в другом случае в пределах целой главы пятой (хотя по логике вещей в обоих торжествах участвуют одни и те же лица)?
Сопоставимое романное время принято Пушкиным и для описания значимых внутренних переживаний любимой героини – Татьяны. Письмо Татьяны к Онегину сопровождается обилием примет цветущего лета: пение соловья, "вдохновительная луна" (полнолуние), "рожок пастуший", "песня девушек", собирающих ягоды, и т.д. Но теми же приметами сопровождены и раздумья Татьяны, посещающей дом Онегина (седьмая глава):
Был вечер. Небо меркло. Воды Струились тихо. Жук жужжал. Уж расходились хороводы;
Уж за рекой, дымясь, пылал Огонь рыбачий. В поле чистом, Луны при свете серебристом, В свои мечты погружена Татьяна долго шла одна (VI, 145).
И здесь циклическая соотнесенность "примет" явно не случайна и связана с интересующим нас "расчислением" по календарю.
В словаре Даля слово "календарь" определено следующим образом: "роспись всех дней в году, с показанием и других, к сему относящихся, сведений; месяцеслов. Святцы составляют часть календаря, а сведения астрономические, по суточному и годовому обращению земли и планет, другую". В XVІІІ столетии "месяцесловы" включали в себя и справочную часть, содержащую общую роспись чинов Российской империи, - в пушкинские времена "календарь" уже был отделен от "Адрес-календаря" (собственно справочной части) и устойчиво включал следующие элементы:
-
1) собственно календарь, который в оглавлении именовался так: "Месяцы, содержащие в себе святцы, аспекты, течение солнца, вид луны и прочие небесные явления";
-
2) четыре дополнительные таблицы: "Церковное счисление", "Роспись господским праздникам и статским торжественным
дням", "Таблица некоторых особых праздников, дней и церковных обрядов на текущий год", "Кавалергардские и молебственные дни";
-
3) дополнительную часть, в которой (с некоторыми вариантами) представлялись "некалендарные" сведения географического характера (восход и заход солнца в разных регионах мира, среднемесячная температура, роспись городам Российской империи и т.д.), статистические данные (численность населения регионов страны, число школ, приходов и т.п.), генеалогические таблицы (в частности, роспись императорского дома) и, наконец, бытовые сведения, относящиеся к данному году: приход и отход почты, такса на почтовые отправления и поездки, отчеты полиции и
- др.
В пределах собственно "календарной" росписи важную часть занимали сведения церковные – с ними были связаны и праздники именин (святцы), и выходные дни (прежде всего – две "выходные" недели: на Рождество и на Пасху). Особо указывались "переходящие" церковные даты – праздники, приходившиеся на воскресенье: Троица, Радоница, Икона "Живоносный источник", Вознесение и т.д.
Состояния природы календарь, по понятным причинам, не указывал: год на год не приходится. Но и Пушкина абстрактный "календарь природы", как мы видели, по большому счету не очень-то интересует. Он запросто смещает в одной "картинке" несколько погодных пластов. Вот типичный пример такого смещения – из первой главы, "день Онегина":
Покаместь в утреннем уборе, Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар, И там гуляет на просторе, Пока недремлющий брегет Не прозвонит ему обед.
XVI
Уж темно: в санки он садится "Пади, пади!" раздался крик; Морозной пылью серебрится Его бобровый воротник.
К Talon помчался... (VI, 11)
Попробуйте соединить две указанных здесь принадлежности верхней одежды Онегина: "боливар" (легкую широкополую шляпу из плотного шелка) и заиндевевшую бобровую шубу... Действие "дня Онегина", как известно, разворачивается морозной петербургской зимой ("Еще, прозябнув, бьются кони, / Наскуча упряжью своей, / И кучера, вокруг огней, / Бранят господ 142
и бьют в ладони..." – VI, 14); само гуляние по бульвару, да еще "на просторе", да еще в летней бразильской шляпе в это время весьма сомнительно. Но Пушкину важно ввести в повествование "боливар" (символ республиканского вольнолюбия) – и он легко забывает о "календаре природы".
Другое дело – "устойчивый" календарь христианских праздников. Для православного человека пушкинского времени понятие "календарь" включало в себя непременное представление о церковном, евангельском годе:
Они хранили в жизни мирной Привычки милой старины;
-
У них на масленице жирной Водились русские блины; Два раза в год они говели;
Любили русские качели, Подблюдны песни, хоровод;
В день Троицын, когда народ Зевая слушает молебен, Умильно на пучок зари
Они роняли слезки три... (VI, 47)
В нескольких строках, посвященных "привычкам милой старины", воссозданы важнейшие вехи повседневного бытия православного русского человека, охватывающие почти весь его годовой "цикл". Здесь и "масленая неделя" (начинавшаяся в промежутке от 26 января до 1 марта17), и говение дважды в год, связанное с двумя основными годичными постами (Великий пост начинался сразу же после "масленицы жирной" – от 2 февраля до 8 марта – и продолжался семь недель, до Пасхи; Филиппов пост, длившийся с 15 ноября до Сочельника 24 декабря). "Русские качели" были непременной принадлежностью празднования Пасхи (переходящий праздник: от 22 марта до 24 апреля); "день Троицын" – 49-й день после Пасхи, непременной принадлежностью этого дня являлся "хоровод" (хороводы обыкновенно начинали в Троицу и оканчивали в "русалкино заговенье" перед Петровым днем, 29 июня). Наконец, "подблюдны песни" Пушкин подробно опишет в пятой главе "Онегина" как принадлежность святок – времени от Рождества (25 декабря) до Крещения (6 января).
Подобное представление о евангельском годе было не только церковным, но и светским. Своеобразное философское обоснование его выражено в одной из заметок К.С.Аксакова, оставшейся неопубликованной. Заметка эта датируется серединой 1850-х годов, но тоже ориентирована на "милую старину" и ___________
-
17 Здесь и далее все даты приводятся по старому стилю.
вполне выражает мировосприятие человека пушкинского времени. "Церковь, – пишет К.Аксаков, - имеет также свою историю года, но вечную, непреходящую среди сменяющихся мирских явлений, историю, необходимую для человека, для души его и для всего христианского общества. Над ходом истории мира, гибнущей ежеминутно, совершается вечный круг негибнущих святых воспоминаний Веры, – год церковный, с празднествами и постными днями. – К этим-то великим воспоминаниям Церкви должна примыкать вся деятельность человека. Благотворны они для души его. Пусть человек, покорствуя тоже воле Божией, идет в мир на историческое поприще – но да проживет он вполне священную историю года, соглашая с нею образ своей жизни"18.
Священное писание, отраженное в "истории года", давало особую эстетическую модель времени. Она базировалась на двух этапах жизни Спасителя: Рождестве Христовом и Светлом Христовом Воскресении. В соответствии с этими двумя датами (одна – непереходящая, другая – переходящая) строился и весь "порядок" народного евангельского календаря: не случайно указание о том, что "два раза в год они говели" (накануне Рождества и перед Пасхой), предваряет перечисление всех ежегодных "привычек милой старины" у супругов Лариных. Святки от Рождества до Крещения; Великий пост от Прощеного воскресенья масленицы до Пасхи (предполагавший отказ от всяких увеселений, в том числе и общественных); пасхальные празднества, Радоница (в период с 31 марта по 3 мая), Вознесение (в период с 1 мая по 3 июня), Троица. Летние праздники, наступавшие после Троицы, осложнялись постами – Петровым (оканчивался в день Петра и Павла) и Успенским (от 1 августа (день происхождения честных древ, Первый Спас) до Успения, 15 августа); с ними связывались и природные изменения: "Петр и Павел – час убавил; Илья-пророк – два уволок..." (Ильин день, 20 июля) – ср. у Пушкина: "Короче становился день..." Осенние праздники завершались "непереходящим" Филипповым (или Рождественским) постом, начинавшимся 15 ноября и продолжавшимся 40 дней – до Рождества. На эту ежегодную годичную модель накладывались и праздники, имевшие "языческие" истоки: весенний Юрьев день (23 апреля), Аграфена-купальница (23 июня), Иван Купала (24 июня) и т.д., и праздники "личные", именины, тоже связанные с календарем. __________
Поэтому не случайно, что именно в этот, евангельский, календарь оказываются включены основные события романа "Евгений Онегин". Вот упомянутые уже четыре "массовых сцены" "Онегина" – балы. Наше "школьное" представление о том, будто петербургские дворяне "гуляли" на балах всю долгую зиму, нуждается в уточнении. По крайней мере, любое официально заявленное общественное увеселение (на которое "записочки несут", VI, 10; украшают дом "плошками", а кареты "двойными фонарями", VI, 16, и т.д.) не могло происходить во время постов. Невозможен был во время постов и бал в Дворянском собрании в Москве, представленный в седьмой главе (VI, 161-163). Подобного рода мероприятия ограничивались временем от Рождества (25 декабря) до Прощеного воскресенья масленицы (самая ранняя дата которого – 1 февраля). В пределах этого месяца-двух и шли балы; их время поневоле приходилось на разгар морозов, поэтому Пушкину, которому хотелось одновременно и "бал петербургский описать", и подчеркнуть республиканский "боливар" Онегина, пришлось совместить две противоречивые данности в нелепом наряде главного героя.
Пределы эти можно несколько уточнить. Деревенский "бал" в доме Лариных происходит в точно определенный день: 12 января (именины Татьяны); этот день, связанный с "законом лунного полугодия", был праздником, традиционно отмечавшимся еще с языческих времен. Петербургский бал в первой главе лишен примет "маскерада", следовательно, происходит уже после Святок (после 6 января), но еще во время сильных морозов, то есть опять-таки "около" Татьянина дня. Около этого же времени происходит и бал в Дворянском собрании в Москве: незадолго до приезда Лариных в первопрестольную был Сочельник (24 декабря – VI, 157); потом начались святочные "родственные обеды" (VI, 158); наконец – "ее привозят и в Собранье..." (VI, 161). "Светский раут" в последней главе, в отличие от бала, мог происходить и во время Поста (ср. примечание Пушкина: "Rout, вечернее собрание без танцев, собственно значит толпа" – VI, 195), но логически он может быть приурочен к тому же времени: не случайно в черновых вариантах на этом "рауте" присутствуют царь и "Лалла-Рук" (VI, 637), лица официальные и зависимые от "календарных" установлений.
Четыре бала – это знаки четырех временных циклов, вместившихся в роман. Два из них связаны с двумя главными персонажами "вместе" ("Татьяны именины" и "светский раут"); два – предоставлены персонажам "по отдельности": Онегин без Татьяны на петербургском бале и Татьяна без Онегина в Московском "собранье". Это признаки той же "зеркальной" композиции романа, что и два письма друг другу тех же героев, соотнесенность
"дня Онегина" и "дня автора" и т.д. Признаки этой "зеркальности" находим и в соответствии порядка описаний (Онегин в первой главе сначала попадает на обед, затем в театр и, наконец, на бал; Татьяна после "родственных обедов" сначала оказывается "там, где Мельпомены бурной / Протяжный раздается вой" – VI, 160; а только потом – на бале), и в похожести ощущений:
"Татьяны именины" Бал "в Собранье"
...В ней страстный жар; ей душно, дурно; ...Татьяна смотрит и не видит,
Она приветствий двух друзей Волненье света ненавидит;
Не слышит... (VI, 110-111) Ей душно здесь...(VI, 162)
Поэтому особенно примечательно, что все четыре бала привязаны к одному и тому же "календарному" времени.
Вот два другие повторенные цикла, представляющие Татьяну в мыслях об Онегине: жаркое лето, полнолуние и некое условное время "между" пением соловья и созреванием ягод... В качестве значимой "календарной" приметы выступают летние девичьи песни, и "хороводы", и "костер". Все это – приметы апогея летних праздников, связанных с "купальной" или "русальной" неделей:
Как у нас в году три праздника:
Первый праздник – семик честной, Другой праздник – Троицын день, А третий праздник – Купальница.
День Аграфены-купальницы (23 июня) и непосредственно следующие за ним Иван Купала, Петр и Феврония (25 июня; счастливый день для любви), Давид-земляничник (26 июня; с этого дня начинали собирать ягоды) и т.д. – вплоть до "Петров-Павлов" (29 июня) сливались в русском сознании в один большой праздник "купальницы", наполненный огромным смыслом и включающий множество обрядовых действий, песен, приговоров, гаданий, примет, поверий. В эти дни открывалось купание в реке (продолжавшееся до Ильина дня, 20 июля); тогда же собирали "приворожные травы", а девушки гадали по ним; ночами и на заре девушки пускались на поиски любовной травы Иван-да-Марья или цветка папоротника; звучали "купальные" песни (типа "Вышла Дуня на дорогу..." (VI, 329) или "Девицы, красавицы..." (VI, 71-72)), разжигались очищающие костры и т.д. Все это были реликты знаменитого языческого "праздника любви", которые порождали особого рода "волшебную" атмосферу, подобную той, какая возникала во время святок.
Не случайно именно в это время Татьяну охватывает "тоска любви" (VI, 58), предстающая как "неизъяснимая отрада"; это 146
время рождает и сочувственный отклик няни на неуместный вопрос: "Была ль ты влюблена тогда?" (VI, 59); да и сами детали представления Татьяны ориентированы на "Иванову ночь": "Приподнялася грудь, ланиты / Мгновенным пламенем покрыты..." (VI, 58); "Татьяны бледные красы, / И распущенные власы..." (VI, 60); "Сорочка легкая спустилась / С ее прелестного плеча..." (VI, 68). И непременная полная луна, становящаяся лейтмотивом этих описаний, – тоже признак "купальницы".
Своеобразным итогом ощущений героини становится ее письмо к Онегину – в определенном смысле "языческий" акт, связанный с "календарным" переживанием любви: "Душа ждала... кого-нибудь..." (VI, 54).
В результате подобного же "календарного" переживания бродящая "без цели" (VI, 144) Татьяна "вдруг" оказалась возле дома уехавшего Онегина.
"Календарные" переклички подобного типа вовсе не случайны. Более того: именно в "расчислении" по евангельскому календарю приоткрывается существо романной композиции.
К.Ясперс разделял человеческую историю на три "неизбежные данности": доистория, история и грядущая постистория19. В соответствии с этими тремя временными данностями строится и роман "Евгений Онегин".
Собственно "история" в нем представлена подробно описанными событиями, происшедшими между двумя "купальными" (языческими) состояниями героини, развернутыми в главах третьей и седьмой. Эта центральная композиционная "данность" романа действительно "расчислена" по календарю и сюжетно сгруппирована вокруг единственного события, которое представляет реальные следствия, - дуэли и смерти Ленского. Это событие приходится на середину земледельческого Года: дуэль происходит 14 января, а 16 января отмечался день "Петра-Половинника" ("Петра-Полукорма", на который должно быть съедено не более половины зимних запасов: этот день считался "переломом" зимы). Все остальное в "истории" – только некая видимость "событий": даже письмо Татьяны не приводит к каким-либо реальным изменениям в жизни героев.
Финалом этой собственно "истории" становится момент узнавания Татьяной Онегина:
Уж не пародия ли он?
XXV
Ужель загадку разрешила?
Ужели слово найдено? (VI, 149)
19 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С.28-287.
Слово в библейской традиции, как известно, суть и начало, и конец. В начале же "истории" Онегин тоже нашел слово, заявив Ленскому о том, что из двух сестер Лариных предпочел бы Татьяну (VI, 53 – кстати, именно с этим заявлением связано и примечание Пушкина о "календаре").
Эта "история" описана детально; именно в нее включены и знаменитые описания времен года в их "моментах перехода", которые тоже оказываются привязанными к евангельским праздникам. "Уж небо осенью дышало..." и т.д. (VI, 89-91) – последовательно отражены такие осенне-зимние вехи, как Ильин день, Преображение, Воздвиженье (14 сентября), Покров (1 октября), Филиппов день (14 ноября), Никола Зимний (6 декабря); перечислены приметы, приуроченные к этим дням (сокращение дня, "дыхание" осени, облетание листьев, отлет гусей, первые морозы). "Зима! Крестьянин торжествуя..." и т.д. (VI, 97-98) – 2 января, день Сильвестра Печерского (по евангельскому календарю, самый "несчастный" день в году) – и его "природное" преодоление "на третье в ночь". "Гонимы вешними лучами..." и т.д. (VI, 139-140) – Благовещение (26 марта; день "перелома" во всех житейских порядках). В соответствии с евангельской традицией в романе рисуются две зимы: одна в четвертой главе (VI, 90-91), другая – в начале пятой (VI, 97-98). Одна – зима грустная, "постная" (ноябрь-декабрь); другая - светлая, "святочная".
Типичный евангельский прием той же "истории" – отсутствие какого бы то ни было "наказания" Онегина, убившего на дуэли своего друга. В данном случае юридическое наказание заменено нравственным "самонаказанием" (так же, как нравственно наказывается Иуда-предатель, апостол Петр, трижды отрекшийся от Иисуса, или Фома неверный). И автор, и читатель в данном случае вполне удовлетворены этой нравственной мотивировкой.
Все события "доистории" сконцентрированы вокруг "дня Онегина" и первого в романе бала. Здесь, в отличие от "истории", множество событий и персонажей, - но представлены они в дискретном, "колебательном" времени, которое заставляет воспринимать их как неизбежные "превратности": кончина отца, смерть дяди, кончины отцов Ленского и сестер Лариных, "заимодавцев жадный полк", неожиданная перемена социального положения Онегина, его хозяйственные новации и т.д. и т.п. – все эти "превратности" даны вне логической и хронологической мотивировки, как то и положено в "доистории". Здесь уже у читателя в принципе не должно возникать досужих вопросов, вроде того, куда девалась мать Онегина? были ли у него братья и сестры? почему Ленский остался верен "странному" уговору 148
своего покойного отца и отца Ольги Лариной? и т.п. Автору это неважно, - точно так же, как евангелистам неважны братья и сестры Иисуса Христа: если они и являются в сюжете евангелий, то лишь по "второму плану". Да и сами общие вопросы "доистории" не предполагают однозначного толкования: был ли Онегин недоучкой или, напротив, широко образован? как могло получиться, что Татьяна, воспитываясь в русской деревне у русской няни, смогла так хорошо освоить французский язык? и т.д.
"Постистория" начинается тогда, когда "слово найдено", и, в соответствии с основной установкой, набросана весьма избирательно. Единственное событие в ней – замужество Татьяны – изображено "мимоходом" и без какой-либо детализации. Что представляет собой "толстый этот генерал"? Сколько лет Татьяне (согласно принятой хронологии, ей в финале романа 20 лет, но столь юный возраст невозможен для "законодательницы зал")? Есть ли у нее дети (у хозяйки салона пушкинского времени дети, как правило, были)? Тут же весьма "разбросанно" и неустойчиво описанный салон Татьяны20 и "светский раут". И, наконец, "зеркальное" повторение события, с которого начинается "история": письмо Онегина (такой же "языческий" акт, как и письмо Татьяны) и христианская "проповедь" ("урок") Татьяны (подобная "проповеди" Онегина).
Но если "языческий" акт Татьяны был отражением языческого мироощущения календарной "купальницы", то онегинское письмо неприемлемо именно с "календарной" точки зрения. Вспомним обстановку финальных сцен романа: "...в воздухе нагретом / Уж разрешалася зима...", "На синих иссеченных льдах / Играет солнце; грязно тает / На улицах разрытый снег" (VI, 184-185). Ранняя весна – Онегин устремился к Татьяне:
Идет, на мертвеца похожий.
Нет ни одной души в прихожей.
Он в залу; дальше: никого.
Дверь отворил он. Что ж его С такою силой поражает?
Княгиня перед ним, одна, Сидит, не убрана, бледна, Письмо какое-то читает И тихо слезы льет рекой, Опершись на руку щекой (VI, 185).
Список литературы Евангельский "календарь" пушкинского "Онегина" (к проблеме внутренней хронологии романа в стихах)
- Иванов-Разумник Р.В. "Евгений Онегин"//Иванов-Разумник Р.В. Соч.Т.5. Пг., 1916. С.48-113.
- Бродский Н.Л. Комментарий к роману А.С.Пушкина "Евгений Онегин". 1-5-е изд. М., 1932-1964
- Бонди С.М. [Пояснительные статьи]//Пушкин А.С. Евгений Онегин. М.; Л., 1936 (многокр. пере-изд.)
- Eugene Onegin. A Novel in Verse by Aleksandr Puskin. Translated from Russian with a commentary, by Vladimir Nabokov. Vol.1-4. New York, 1964
- Тархов A.E. Судьба Евгения Онегина: Комментарий//Пушкин А.С. Евгений Онегин. М., 1978
- Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина "Евгений. Онегин": Комментарий. Л., 1980.
- Чуковский Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. С.274-278
- Семенко И.М. Эволюция Онегина//Русская литература. 1960. № 2. С 111-128
- Бочаров С.Г. Форма плана//Вопросы литературы. 1967. № 12. С.115-136
- Тойбин И.М. "Евгений Онегин": поэзия и история//Пушкин: Исследования и материалы. IX. Л., 1979. С.83-99
- Лазукова М. Время в романе "Евгений Онегин"//Литература в школе. 1974. № 2
- Никишов Ю.М. Пушкин как герой своего стихотворного романа//Вопросы биографии и творчества А.С.Пушкина. Калинин, 1979. С.24-46
- Баевский B.C. Время в "Евгении Онегине"//Пушкин: Исследования и материалы. XI. Л., 1983. С.115-130.130
- Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Л.; М.: Изд-во АН СССР, 1937-1949. T.I-XVI.
- Гумилев Л.Н. От Руси до России: Очерки этнической истории. СПб., 1992. С.17-18.
- Чумаков Ю.Н. "Евгений Онегин" и русский стихотворный роман. Новосибирск, 1983. С. 6-34.
- Аксаков К. С. Великий пост. -РГАЛИ. Ф.10, оп.4, ед.хр.7, л.30.
- Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С.28-287.
- Кошелев В.А. Татьяна Ларина и "русская традиция" (К постановке вопроса)//Проблемы современного пушкиноведения, Псков, 1991. С.31-40.