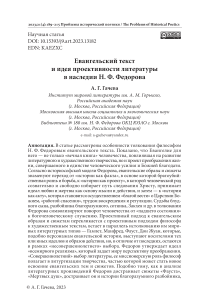Евангельский текст и идея проективности литературы в наследии Н. Ф. Федорова
Автор: Гачева А.Г.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены особенности толкования философом Н. Ф. Федоровым евангельского текста. Показано, что Евангелие для него - не только «вечная книга» человечества, повлиявшая на развитие литературного и художественного творчества, но и проект преображения жизни, совершаемого в единстве человеческого усилия и Божией благодати. Согласно историософской модели Федорова, евангельские образы и сюжеты знаменуют переход от «истории как факта», в основе которой братоубийственная рознь и борьба, к «истории как проекту», в которой человеческий род сознательно и свободно избирает путь следования Христу, принимает идеал любви и жертвы как основу мысли и действия, и затем - к «истории как акту», которая становится осуществлением «благой вести» о Царствии Божием, «работой спасения», трудом воскрешения и регуляции. Судьбы блудного сына, разбойника благоразумного, сотника, Закхея и др. в толковании Федорова символизируют поворот человечества от «падшего состояния» к богочеловеческому служению. Проективный подход к евангельским образам и сюжетам перекликается с проективным подходом философа к художественным текстам, встает в параллель истолкованию им мировых литературных типов - Гамлет, Манфред, Фауст, Дон Жуан, которые, подобно персонажам евангельской истории, выступают носителями тех или иных идеалов и образов действия, но, в отличие от последних, остаются в рамках «несовершеннолетнего» выбора. Федоров утверждает идеал «всемирного реализма», который задает миру перспективу преображения. «Совершеннолетний» выбор литературы, ее миссионерскую роль философ полагает в литургизации творчества, частью которой может стать новое освоение евангельских тем и сюжетов. Подобно тому, как в анализе литературных произведений Федоров достраивает сюжеты «Фауста», «Мертвых душ», достраивает он и истории благоразумного разбойника, Лазаря и др., протягивает нити взаимодействия между евангельскими сюжетами, реконструирует звенья евангельской истории, создавая проекты будущих романов, воплотить которые надлежит художникам слова.
Н. ф. федоров, евангелие, христианство, проективный подход, образ, сюжет, идеал, преображение, всемирный реализм, литургизация искусства, образ действия
Короткий адрес: https://sciup.org/147242331
IDR: 147242331 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.13182
Текст научной статьи Евангельский текст и идея проективности литературы в наследии Н. Ф. Федорова
ристианской литературы вовсе не существует , потому « что она не сделала предметом своей думы ни разбойника благоразумного, ни Варавву, которого заменил Христос: не открыла души и этого разбойника, который не мог не интересоваться судьбою Пострадавшего за него и мог знать слова другого разбойника. Не поняла она в Фоме сомнение, от любви происходящее; не поняла Иуды не Искариота, сокрушавшегося о том, что Христос хочет явиться им, а не всему миру, не поняла женщины, разбившей драгоценный алавастр, не поняла Лазаря притчи и Лазаря воскрешенного и совсем не поняла Христа, потому что ей по плечу Сократ, а не Христос. Искру неудовольствия между Петром и Павлом раздула в непримиримую вражду, желая увековечить католицизм и протестантизм как две непримиримые партии. Имея пред собою такие богатства, литература новая пробавлялась классическим Прометеем, да новыми Фаустом, Мефистофелем, этими искусственно раздутыми типами, да богатыми пустословами Гамлетами. Ни одного великого героя, ни героини нет в этой литературе»1.
В этой заметке Н. Ф. Федорова, автора «Философии общего дела», одного из ведущих представителей русской религиозной философии, — не просто критика путей европейской литературы, с эпохи Возрождения двигавшейся в сторону обмирщения слова, неразрывного с обмирщением жизни, но и имплицитно выраженный особый — проективный — подход к литературе и к статусу в ней евангельского текста2. Представление о Евангелии как о резервуаре вечных тем и образов мировой культуры, неиссякающем источнике вдохновения для художественного творчества кажется мыслителю слишком узким, а главное — не соответствующим масштабу выраженного в нем Слова. Евангелие для Федорова не просто Вечная книга, которую нужно вечно читать и вечно восхищаться ее поэтическим и нравственным строем. Евангелие — это план, проект будущего, камертон истории, какова она должна быть, и действия в ней человека. И новозаветные образы и сюжеты не исчерпывают своей миссии тем, что становятся основой художественных шедевров, преображающих мир лишь в пространстве картины, скульптуры, сцены, литературного текста. Они — орудия активного, творческого христианства, которое не уходит из мира, но оцерковляет жизнь и историю, превращая их в «работу спасения» (т. 1: 322, 358) (см. об этом: [Гачева, 2021: 357–361]). Они побуждают к аксиологической переоценке, к умопремене, раскрывают читающим и слышащим Слово Божие тот образ мира и человека, который должен быть не просто признан, но воплощен, демонстрируют, чем должны быть люди в их «родовой совокупности» и как они «должны действовать согласно Божественному плану» (т. 1: 143).
Если воспользоваться историософской терминологией самого Федорова, новозаветные образы и сюжеты составляют средоточие истории как проекта , становящейся переходом от истории как факта , как «взаимного истребления, истребления друг друга и самих себя, ограбления или расхищения чрез эксплуатацию и утилизацию всей внешней природы (т. е. земли)» (т. 1: 138) к истории как акту — к делу регуляции и всеобщего воскрешения, в котором человечество выступает как соработник Творца, ко внехрамовой литургии, разворачивающейся на пространствах Земли и претворяющей мертвый прах в живые тело и кровь [Cеменова, 2019: 275–276]. События и лица Евангельской истории подвигают к нравственному самоопределению и следующему за ним действию, к совершеннолетию, которое, подчеркивал Федоров, заключается в исполнении Христовой заповеди о совершенстве: «…будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48).
Проективное мироотношение, заданное евангельским текстом, Федоров распространял на философию, литературу, искусство. «Вся философия несостоятельна, если она есть мысль без дела» (т. 3: 264), — писал он. Проективный подход побуждает выйти за пределы отвлеченного умозрения в практику жизни и действия, ставит перед людьми, живущими в по-слегрехопадной, смертной реальности, задачу преображения этой реальности, преодоления смерти, «восстановления мира в то благолепие нетления, каким он был до падения» (т. 1: 401).
Вопрос о бытии, рожденный кабинетным типом мышления: «Почему сущее существует», — Федоров подчинял вопросу о зле и страдании, возникающему в недрах человеческой совести: «Почему живущее страдает и умирает» (т. 1: 390). Из последнего вопрошания, рожденного в глубинах «сердечного ума», в коем слиты идея и чувство, рождался призыв к общему делу, к «обращению слепой, смертоносной силы в живоносную», «внесению в природу воли и разума» (т. 1: 63, 393). Явление в мир такого сложно организованного, наделенного рефлексией и творческой способностью существа, как человек, философ полагал ключевым этапом развития жизни, началом ее перехода в принципиальное новое состояние, когда она обретает сознание, становится способной к этической самооценке, выбору между добром и злом и получает возможность действовать на основании этого выбора. «Природа в нас начинает не только сознавать себя, но и управлять собою» (т. 2: 239), — так формулирует Федоров это новое качество мира, в котором присутствует и действует человек. При этом философ соединяет самосознание и самоуправление как два неразрывных друг с другом принципа функционирования целого жизни с того момента, когда в космосе появляется антропос. В своем учении всеобщего дела он призывает к преодолению разрыва между мыслью и действием, реальностью и идеалом, постулирует будущие преобразовательные задачи человека в истории и бытии.
Вектор философствования, возводящий от наличного к должному, от онтологии к деонтологии, обусловил специфику оценки Федоровым вершинных фигур русской литературы — А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского. Мыслитель рассматривал эту линию русской классики XIX в. в контексте своей аксиологии искусства, призванного к выражению «этики воскресительного долга» [Титаренко: 56], утверждая, как в случае с философией, идею «проективности» словесного творчества. Литература, подчеркивал он, задает миру и человеку тот или иной образ действия, формулирует и формирует ценностный выбор цивилизации, и важно, чтобы он был благим и всеобщим. Художественная словесность должна стать средоточием проективной истории, инструментом объединения человечества, «примирения религии и науки» (т. 3: 367), подвигая род людской к осуществлению воскресительного проекта. Философ намечал вектор движения искусства слова ко «всемирному реализму», который, в отличие от «скотского реализма» (т. 1: 379, 67), лишь отражающего смертную жизнь, раскрывает в наличной действительности ее эйдос, или (если представлять это в религиозной системе координат) ее подлинный — божеский — образ, тот, который и был замыслен Творцом и должен быть восстановлен (или проявлен) совокупными усилиями человечества.
Федоров особенно ценил в литературе способность в единичном прозревать общее, возводить от конкретного к универсальному, воздействовать не только на рациональную способность личности, но и на ее ум, чувство, волю, адресуясь тем самым к человеку в его целостности. В художественном слове Пушкина и Лермонтова, Толстого и Достоевского он находил изображение «небратства», причем в том самом ракурсе, который был свойственен ему самому: небратство не только как тип отношений между людьми, но и как образ отношения человека к природе, более того — как характеристика самого природного порядка существования, основанного на борьбе особей, пожирании, вытеснении, смерти. Но одновременно у русских писателей-классиков он слышал тоску по всечеловеческому и всемирному родству, настойчиво звучащий «вопрос о цели и смысле жизни» (т. 3: 523, 726), пробивающееся сквозь тернии озлобленности, ненависти, ожесточения чаяние апокатастасиса (см.: [Семенова, 2016: 118–122, 168–169, 187–183, 328, 726], [Гачева, 2019: 522–529]). Эти манифестации, условно говоря, федоровского, точнее протофедоровского начала выражались не дискурсивно-логически, а получали целостное, образнохудожественное развитие, вливаясь в метафизическую и религиозную полифонию русской литературы. Сам Федоров тонко улавливал их, используя уже в собственных текстах.
Вот как интерпретировал он три знаменитых лермонтовских шедевра: стихотворения «Гляжу на будущность с боязнью…» (1837), «И скучно и грустно» (1840) и «Выхожу один я на дорогу…» (1841). Отталкиваясь от их «мыслеобразов», философ выстраивал единый экзистенциальный сюжет, истекающий из сознания небратства и одиночества и кульминирующий в чаяние обожения, братски-любовного состояния твари:
«Как возможно внутреннее счастие для кого-либо, когда несчастие кругом?
Человек, который так глубоко сознавал одиночество, не мог верить в еврейского одинокого Бога.
Он ищет не смысла жизни… он ждет вестника избавления, который откроет жизни назначенье, цель упований и страстей.
Скучно (потому что дела нет) и грустно от одиночества, следовательно, нужно дело, но дело не одиночное, а совокупное.
Скука , грусть и тоска . Скука от бездействия, грусть от одиночества (от розни), тоска — чувство смертности.
Не найдя сочувствия у существ чувствующих, он обращается к бесчувственной природе и путем одушевления, мифологизации он обращает природу в храм (показывая тем всю глубину своей религиозности), в котором наверху на небе "торжественно и чудно"; там и "звезда с звездою говорит" и даже "пустыня внемлет Богу", хотя он "от жизни не ждет ничего", но желает в этом храме сохранить дыхание жизни, желает вместо отпевания слышать песнь о любви» (т. 3: 528).
Федорову хотелось говорить о родстве, любви сынов к отцам, скорби об утратах, воскресительной памяти и труде воскрешения, используя во всей полноте эмоционально-образные возможности художественного текста. Именно поэтому так тщательно и напряженно работал он над изложением учения всеобщего дела для Ф. М. Достоевского. Философ стремился убедить писателя, вдохновить его идеей воскресительного долга, надеясь на то, что тот выразит ее в своем творчестве, даст ей жизнь в художественном тексте3. И именно поэтому всю первую половину 1880-х гг., прошедшую под знаком общения с Л. Н. Толстым, философ стремился убедить в своих идеях писателя, переживавшего глубокий внутренний кризис, раненого «арзамасским ужасом» смерти, остро сознававшего расхождение путей искусства и жизни. Федоров надеялся, что Толстой найдет ответ в его «Вопросе о братстве…» и сам выступит с призывом к восстановлению всечеловеческого родства4.
Слово литературы дает возможность не только «мысль разрешить», но и соединить эту мысль с жизнью, избавить ее от умозрительности и отвлеченности, воплотить во всей вещности мира, в его живой конкретности, в реальных ситуациях, случающихся здесь и сейчас. Именно так после знакомства с идеями Федорова зазвучат темы отечески-сыновней любви, братства и воскрешения в романе «Братья Карамазовы», кульминируя в финальной главе «Похороны Илюшечки. Речь у камня». А вот сон Дмитрия Карамазова в Мокром: ряды погорелых изб вдоль дороги, худые, почерневшие от голода женщины и с ними одна, исхудавшая с плачущим дитем на руках… Разворачивается притча об уязвимости и непрочности жизни, о невозможности полноты счастья при существовании голода, стихийных бедствий, болезни и смерти. Мысль, которую так настойчиво доказывал автор «Философии общего дела», является облеченной в плоть образа, раскрывается в хронотопе сцены, в символике пейзажа (поздняя осень, слякоть, холод и снег), в диалоге героя с ямщиком («иззябло дитё, промерзла одежонка <…> бедные, погорелые, хлебушка нетути»5), в цветовом колорите («избы черные-пречерные», «коричневые» лица баб, «сизые» от холода ручки младенца). Характерна реакция Мити на его символический сон: в сердце героя поднимается горячая волна сострадания, вспыхивает решимость «сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дитё, не плакала бы и черная иссохшая мать дити, чтоб не было вовсе слез от сей минуты ни у кого»6. Столкновение со страданием, голодом, смертью пробуждает в личности зов высшей природы, нравственную рефлексию, решимость стать орудием восстановления братства. C точки зрения Федорова, это та подлинная, «всамделишная» реакция, которую и должен проявлять человек, столкнувшись с чужим страданием, ибо для философа, как и для Достоевского, «всякий пред всеми за всех и за всё виноват»7.
Позднее А. К. Горский, посвятивший духовно-творческому диалогу Федорова с Достоевским и Толстым работы «Рай на земле: к идеологии творчества Ф. М. Достоевского: Ф. М. Достоевский и Н. Ф. Федоров» и «Перед лицем смерти: Л. Н. Толстой и Н. Ф. Федоров», улавливал эти художественные вариации федоровских тем и мотивов у обоих писателей, сопоставляя символический сон Дмитрия Карамазова и видение Каны Галилейской его младшего брата Алеши как моменты обретения активной, действенной веры, перекидывая мостик от «Смерти Ивана Ильича» к федоровскому «Вопросу о братстве…»8. Более того, именно через Федорова раскрывал глубинные интенции творчества двух современников, стремившихся за пределы литературы: «Действовать, а не созерцать, действовать, не отлагая и "несмотря ни на что"…»9.
Проективный подход к литературе определил ту аксиологическую ревизию системы художественных жанров, которая была начата Федоровым и продолжена христианскими космистами 1920–1930-х гг. — А. К. Горским и Н. А. Сетницким, наследовавшими философу общего дела не только в сфере историософии и антропологии, но и в области эстетики. Федоров спорил со знаменитым утверждением В. Г. Белинского о романе как вершинной форме развития эпического искусства, подчеркивая, что эпос, плод коллективного, соборного творчества, в котором звучал голос всего народа, голос «сынов, говорящих об отцах и чувствующих, сознающих себя братьями» (т. 2: 400), не эволюционирует, а вырождается в роман, детище секулярной, игровой, «несовершеннолетней» цивилизации, общества вечных женихов и невест. Развивая этот тезис, Горский и Сетницкий полагали перспективы возрождения эпоса в становлении жанра литургической эпопеи, считая одним из примеров такой эпопеи как раз роман «Братья Карамазовы» с его финальным исповеданием воскресительного долга10.
За каждой видовой и жанровой формой Федоров видел ее содержательные горизонты, встающий за ней образ мира, человека, истории. И момент художественного выбора в искусстве связывал с ценностным самоопределением, с начертанием пути развития. «Должны ли все искусства соединиться в трагедии, как изображении гибели мира?» (т. 2: 159), — так комментировал философ идею синтеза искусств модернистской эпохи и противопоставлял ницшевско-вагнеровскому варианту слияния искусств в музыкальной трагедии синтез искусств в литургии. Если трагедия строится на образе мира, антиномически разорванного, бьющегося в тисках необходимости, железные зубья которой разжать невозможно, то литургия, которая в переводе с греческого значит «общее дело», манифестирует полноту преображения смертного, вытесняющего, разорванного бытия в бессмертное, всеединое, наполненное любовью.
Литургическая установка в искусстве оказывается способна перестраивать привычные жанры: роман преображается в «литургическую эпопею», поэзия — в «литургическую поэзию». Пророческая, проективная способность искусства проявляет здесь себя во всей полноте. Становится осуществимой та наитруднейшая и «безмерная» задача воплощения идеала, изображения « положительно прекрасного», о которой писал Достоевский11. На следующей же — преображающей — стадии границы искусства раздвигаются за пределы творчества идеальных моделей будущего и оно предстает самим воплощением этих моделей, литургия выходит за стены храма, расширяется на все пространство мира, вбирая все области знания и действия человека, становится «внехрамовым действием», пресуществлением земного праха в преображенные тела умерших, осуществляемым в синергии с Творцом.
Проективный характер искусства вообще и литературного творчества в частности означает, что за каждым литературным шедевром встает не просто образ мира, но образ действия, литература ищет цель жизни и направляет развитие общества к исканию этой цели. Герои всемирной и русской литературы: Гамлет, Фауст, Чайльд-Гарольд, Каин, Дон Жуан, Печорин — определяют, по Федорову, склад мысли и жизни цивилизации Нового времени. Каждый из них в той или иной степени проявляет тот тип действия и мироотношения, который философ называл «несовершеннолетием» и который оценивал сквозь призму евангельской притчи о блудном сыне. Эти герои — «блудные сыны» истории, пораженные разочарованием, «мировой скорбью», болезненным эгоизмом, бунтующие против Творца, мучающиеся предельными вопросами существования, но так и не нашедшие на них созидательный и полный ответ, так и не опознавшие своего долга перед отцами и Богом отцов.
Героям новой литературы философ противопоставлял персонажей Евангельской истории — апостолов, сотника, разбойника благоразумного, самарянку у колодца, услышавшую слово Господне о воде, текущей в жизнь вечную, Никодима, с которым Христос беседовал о «рождении свыше», блудницу, омывшую в Великую Среду миром ноги Спасителя и отеревшую их своими волосами, Марию Магдалину, из которой Господь «изгнал семь бесов» (Мк. 16:9) и которая преданно служила Христу, первой сподобившись явления Воскресшего Господа. Все они знаменуют иной — совершеннолетний выбор рода людского. Не «блудных сынов», пирующих на могилах отцов или торгующих, подобно Чичикову, мертвыми душами, а «сынов и дочерей человеческих», идущих вслед за Спасителем мира. В них и через них совершается внутренний рост человечества, который в перспективе времени и истории должен привести к его повороту на Божьи пути.
В Евангелиях этот поворот символически выражен в притче о блудном сыне: оставивший отца, постыдно расточивший дарованное ему, претерпевший нужду и голод, он с покаянием возвращается в отчий дом, в объятия отца, за которым встает образ Отца Небесного. Так и человечество, отделившееся от Отца и Творца, превратившее историю в поле «взаимного истребления», может, по Федорову, отречься от дел зла, тьмы и насилия, встать на Божьи пути, сознать себя как сына и сора-ботника Небесного Отца, соучастника дела спасения мира, его облечения в красоту и нетление12.
Если образ блудного сына появляется в притчах Христовых, то образ разбойника благоразумного включен в саму сюжетную линию новозаветной истории. Будучи распят рядом с Иисусом, благоразумный разбойник опознал Бога в униженном, измученном человеке, подвергнутом позорной, мучительной казни. И он стал не просто первым спасенным в вечности, кому Христос дал обетование: «Ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43), но и «первым исповедником христианства», ибо «признал Спасителя людей в Распятом, в том именно, что было для эллинов безумием, а для евреев соблазном» (т. 2: 61). Федоров ставит благоразумного разбойника в этом смысле даже выше апостола Петра, который хотя формально «еще раньше исповедовал Господа Сыном Божиим и Мессиею», но «в страждущего Мессию» «не хотел и верить» (т. 2: 61). Разбойник же постиг то, «чего не понял первоверховный апостол» (т. 2: 61): смысл Голгофы, тайну Искупления, а главное — ее связь с будущим Воскресением всех, ибо разбойник, знавший, что ему предстоит умереть, молил Господа не о земном царстве, а «о поминовении в Царствии Божием» (т. 2: 60), где не будет смерти.
Вдумываясь в происходящее на Голгофе, Федоров преодолевал смысловое противоречие между свидетельствами евангелистов, когда, по рассказу ап. Матфея, Христа поносили оба распятых разбойника (Мф. 27:44), а, согласно евангелисту Луке, хулу на Господа возносил лишь один разбойник, другой же увещевал его, говоря: «…или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал» (Лк. 23:40–41). Федоров полагал, что здесь обозначены два разных момента сцены Распятия. Поначалу Христа вслед за прохожими, воинами и начальствующими, насмехавшимися над Сыном Божиим: «…Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста» (Мф. 27:40), — хулили оба разбойника. Однако слова Христа: «Отче, отпусти им: не ведят бо, что творят» (Лк. 23:34) — произвели настоящий переворот в сердце одного из них. «Увлеченный на миг общим потоком», он вдруг прозрел, ему открылись «величие и святость» Христова подвига, «гениальным и чутким сердцем» он «постиг страдание и признал его» (т. 2: 61, 62).
Спасение покаявшегося разбойника для Федорова является центральным аргументом в пользу апокатастасиса. «…Ве-ликий Пяток есть день спасения разбойника и всего преступного человечества» (т. 2: 61), — пишет мыслитель. Сравнивая историю разбойника с Христовыми притчами о блудном сыне и работниках последнего часа, дающими надежду на милосердие и прощение Божие отступившим, заблудшим, не радевшим о своем спасении, он ставит ее по нравственному смыслу и силе эмоции выше их:
«Прием, оказанный блудному сыну, вознаграждение работника, пришедшего в последний час, наравне с первыми, — все это побледнело перед вступлением разбойника в рай. Но зато и никогда не было такой радости на небе, как в момент вступления разбойника, которого надо представлять себе воплощением всех грехов несчастного человечества. И эти грехи, непрощаемые, казнимые по закону ограниченной человеческой правды, оказались прощенными безграничною благостью Божией! Остался только Иуда… но ведь и Иуда раскаялся!..» (т. 2: 61).
Спасение разбойника рушит, по Федорову, всю систему «правовых», юридических установлений (как, мол, это возможно, чтобы «преступник-душегуб первый вступил в рай» (т. 2: 61)!), замещая фарисейскую «правду» Божественным милосердием, которое не знает внешних правил, законнических оснований и строгих границ. Но главное — оно становится начальной точкой поворота в новозаветной истории, когда гнавшие Христа, распинавшие Его и глумившиеся над Ним: «…радуйся, Царь Иудейский!» (Ин. 19:3) — вдруг опамятываются:
«…за разбойником обращается сотник, — а по Матфею — "и иже с ним" стрегущие Иисуса, — и за сотником эти "вси", которые "биюще перси свои возвращахуся", — возвращались уже другими, новыми людьми. И немного нужно было, чтобы этот народ, который еще так недавно с таким восторгом встречал Победителя смерти, Воскресителя Лазаря, а потом, несколько часов тому назад, с такою яростью требовал смертной казни для Воскресителя, — теперь, как один человек, пал бы к подножию креста» (т. 3: 424).
А далее масштаб происходящего в Иудее расширяется на все человечество, на всю земную историю, и вслед за участниками и свидетелями Страстных дней и Пасхи к исповеданию разбойника присоединяется мир.
Упомянутый в приведенной цитате сотник является еще одним деятелем евангельской истории, судьба которого осмысляется Федоровым в контексте перехода от «истории как факта» к «истории как проекту». Согласно Евангелию от Марка, сотник, стоявший напротив Креста, услышав последние слова Спасителя мира: «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» — и увидев Его Крестную смерть, уверовал в Него, воскликнув: «Истинно Человек Сей был Сын Божий» (Мк. 15:34, 39). Федоров видит в этом гласном исповедании Спасителя со стороны римского воина акт величайшего мужества и одновременно символическое предвестие будущего «преклонения римского мира перед благодатию креста, задолго до Константина» (т. 2: 63). А далее, расширяя и углубляя символику обращения сотника, который, согласно христианскому преданию, после смерти Спасителя принял христианство, стал исповедником и мучеником за Христа, он видит в «этом переходе воина от оружия истребления, меча, к оружию мира и спасения, ко Кресту» (т. 2: 63) перспективу преображения военного дела в дело регуляции природы, обращения армии вестествоиспытательную силу.
Среди персонажей Евангелия, проходящих через умопремену, через радикальное изменение внутреннего строя мысли и действия, Федоров называет Закхея, «начальника мытарей», который, когда Христос проходил через Иерихон, забрался на смоковницу, стремясь увидеть Спасителя. Христос, увидев духовное горение Закхея, вступил с ним в диалог, а затем отправился в его дом, где был встречен с радостью и надеждой. И это сугубое внимание Господа к грешнику, стремление «взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19:10) высекло из сердца Закхея не просто слова раскаяния в том, что, будучи сборщиком податей, он притеснял зависящих от него, но исповедание нового строя мысли и действия, ведущего к искуплению совершенного греха: «Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо» (Лк. 19:8). Подобно тому как сотник символизирует у Федорова, проецирующего события и сюжеты Евангелия на современность, «кающийся милитаризм», Закхей выступает символом «кающегося индустриализма» (т. 1: 490), осуществляющего переход от «вопроса о богатстве и бедности» к «вопросу о смерти и жизни» (т. 1: 390, 391), к новой экономической модели развития, которую позднее С. Н. Булгаков точно обозначит формулой «мир как хозяйство»13, а А. К. Горский и Н. А. Сетницкий назовут «экономикой регуляции»14.
В работе «Религиозно-этический календарь» Федоров дает свое проективно-символическое толкование церковного богослужебного года, существенно расширяя катехизическое прочтение воспоминаемых в его ходе событий новозаветной истории, будь то притчи о блудном сыне, о мытаре и фарисее, о страшном суде, сюжеты которых составляют основу приуготовительных недель к Великому посту, или кульминационные события Христовой жертвы за мир, воспоминаемые в Лазареву субботу, Вербное воскресенье, Страстную и Пасхальную седмицы. Все они рассматриваются мыслителем сквозь призму активно-христианских идей, где человек выступает по отношению к Богу не как раб и наемник, но как возлюбленный сын, соделатель и сотворец. Не только воскресение Христово предстает у мыслителя завязью и зерном грядущего всеобщего воскрешения, осуществлением которого должна стать история, но и другие события новозаветной истории, запечатленные в церковном Писании и Предании, освещаются у Федорова светом этой богочеловеческой, всемирной задачи15.
В своем истолковании евангельских сюжетов и образов Федоров отчасти использует тот же прием, который применяется им в истолковании явлений литературы. Разбор художественных произведений, будь то «Фауст» Гёте, утопический роман Э. Беллами «Через 100 лет» или «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше, превращается в мировоззренческий диалог, а подчас и спор с автором, в процессе которого Федоров выстраивает свою систему аргументации, исходя из самого разбираемого текста, фактически творит собственную его версию, но уже наполненную радикально иным содержанием. Как пишет С. Г. Семенова, философ общего дела «создает свой проект » произведения, каким оно могло и должно было бы быть, с одной стороны, раскрывая «незамеченные слабости идеала критикуемого автора», и с другой — представляя «произведение как открытую творческую возможность, приглашающую к размышлению и активному сотрудничеству читателя» [Семенова, 2019: 343]. В случае же с теми авторами, которые глубинно Федорову были близки, философ стремился раскрыть и дорастить те активнохристианские, воскресительные смыслы их текстов, которые были зачаточны, пре бывали в латентном, непроявленном состоянии.
Именно так трактует философ «Мертвые души» Гоголя, создавая своего рода идеальную модель гоголевской «поэмы», представляя ее как переход от «истории как факта» к «истории как проекту» и далее к «истории как акту». Смысл первой части он иллюстрирует евангельской притчей о блудном сыне, подчеркивая, что Гоголь, изображая «торг сынов одного сословия отцами или душами отцов другого», рисует «высшую степень небратства» (т. 3: 530). Вторую, уничтоженную часть поэмы Федоров представляет как умопремену героев, сознавших «преступность торга» мертвыми душами (т. 3: 168), как их «раскаяние в святокупстве и святопродавстве» (т. 3: 533), как примирение интеллигенции, забывшей о предках, но имеющей ключи знания, и народа, не имеющего знаний, но поминающего отцов. Третья же часть, по мысли философа, должна стать соработничеством народа и интеллигенции, братским участием в воскресительном деле, в «возвращении жизни мертвым душам, как искуплении за грехи торга ими» (т. 3: 536).
Опираясь на проективный подход, Федоров раскрывает и сюжеты новозаветной истории. Призывая, подобно художникам слова, на помощь интуицию и воображение, мыслитель реконструирует звенья, выпадающие из Евангельского повествования, устанавливает между героями Четвероевангелия перекрестные связи, достраивает умно-сердечным воображением то, о чем молчали Евангелисты. Так, Федоров полагает, что римский сотник, исповедавший Спасителя у Креста, это тот же сотник, который в Капернауме вышел навстречу Христу с просьбой исцелить его больного слугу: «Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой» — и услышал в ответ: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры» (Мф. 8:5–10). Этот «суровый воин, принимающий так близко к сердцу болезнь не сына, не брата, не родственника, а слуги; сын гордого, царственного Рима, явивший редкий пример уже христианского смирения» (т. 2: 62), вместе с другими Евангельскими персонажами, сумевшими любящим сердцем разглядеть в простом плотнике — Спасителя мира, в Распятом — Победителя смерти и ада, предстает завязью того человечества, которое последует за Христом, творя Его дела, а в конечном итоге «и больше сих сотворит» (Ин. 14:12).
Следуя художественно-проективному подходу к Евангелиям, Федоров реконструирует историю благоразумного разбойника, создавая своего рода проект его «жития» и тем самым вставая в параллель с Достоевским, стремившимся написать свое «Житие великого грешника». Он как бы отматывает ленту времени вспять — от момента Распятия, когда прозвучало слово разбойника: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое» (Лк. 23:42), — к событиям, предшествующим его пленению и казни. Федоров представляет разбойника «соотечественником и сверстником Христа» (т. 2: 62), более того — «слушателем Нагорной проповеди», которая «глубоко запала в его душу, потому что в нем была и кротость, и смирение, или нищета духа, и жажда правды, словом, — все, что вводит в Царство Небесное» (т. 3: 398). Однако «гнет и мощь внешних обстоятельств не допустили его сделаться последователем Вестника Царствия Божия, и даже кротость его превратилась в ярость, жажда правды — в кровожадность (и нищий духом превратился в разбойника)» (т. 3: 398). Мыслитель ставит в параллель судьбу Иисуса Христа и судьбу разбойника, подчеркивая, что в течение трех лет, когда «Христос находил приверженцев среди хананеев, римлян, мытарей и воинов», «поучал и исцелял», разбойник грабил, притеснял иноплеменников, «а когда Христос совершил свое высшее чудо, воскрешение Лазаря, он совершил ужаснейшее убийство» (т. 2: 62). Кульминацией истории Христа и разбойника стала Голгофа, где были распяты рядом «Воскреситель и убийца» (т. 2: 62) и где жесткий человеческий суд отступил перед Божественным милосердием. Разбойник, самый падший, самый презренный, самый отверженный, демонстрирует в момент крестной казни «гениальное и чуткое сердце» (т. 2: 62). «Бывший ученик, оставивший Учителя», узнает «в Распятом, поруганном Мессию» (т. 3: 398), внутренне обращается и исповедует Господа в момент последних страданий, разделяя Его муки, соумирая вместе с Ним, чтобы затем совоскреснуть. Более того — молитва разбойника поддерживает и укрепляет Самого Спасителя в момент, когда «боль одиночества достигла высшей степени, так что и физические боли не могли подавить ее» (т. 3: 398), недаром вырывается из Его уст вопль к Богу-Отцу:
«Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мк. 15:34). Благодаря разбойнику благая весть о Царствии Божием звучит и на Кресте, давая надежду человечеству, уча его не отчаиваться даже в моменты кризисных, катастрофических поворотов истории.
Блудный сын, разбойник благоразумный, самарянка, Зак-хей — все это фигуры Евангелий, воплощающие образ того всеобъемлющего изменения мысли, жизни и действия, который задан Новым заветом каждому из приходящих в мир человеков. Но не менее занимают Федорова и те персонажи евангельской истории, которые изначально предстают в ней как последователи Спасителя, его спутники, помощники, ученики. В этой группе евангельских персонажей он особенно выделяет женщин, внимавших Слову Господню, преданно служивших ему: сестер Марию и Марфу, в доме которых Иисус всегда встречал тепло и заботу, и особенно Марию Магдалину, удостоившуюся первой видеть Воскресшего Господа и принесшую ученикам радостную весть о Воскресении. Преданность, отзывчивость и сердечность женщин, которые сопровождали Спасителя в дни Его проповеди, всем сердцем приняв Его учение, которые не отступили от Него в дни Крестных страданий, не испугались возможных гонений, но, как Мария Магдалина и Мария Клеопова, отправились к гробнице, чтобы помазать Тело умершего Господа, и услышали от ангела: «Он воскрес» (Мф. 28:6), — в толковании философа активного христианства предстают прообразованием будущего соучастия женщин, «дочерей человеческих», в деле воскрешения, которое не есть произведение «одного ума и даже воли», но «результат также и чувства» (т. 1: 285).
Евангельская Мария Магдалина, служившая Христу всем сердцем, — «представительница женщин с их лучшей, чистейшей стороны» (т. 1: 285). Подобием ей в мире литературы являются Антигона и Корделия, героини, созданные гением Софокла и Шекспира и воплощающие тип женщин, «отличающийся преобладанием души, способностью к глубокому состраданию», демонстрирующие ту добродетель «отцелюбия» (т. 1: 286), которая, с точки зрения Федорова, есть проявление глубинной религиозности, отречения от инстинктивно-животного существования, побуждающего к заботе о потомстве и забвению отцов. Образ, созданный в Евангелии, и образы светской литературы оказываются внутренне едины, рисуя тот аксиологический выбор, перед которым встает человек нравственно чуткий, не смиряющийся со страданием ближних, стремящийся к преодолению разрыва между наличным и должным, взыскующий полноты родства.
В этом выборе, предполагающем как внутреннее, духовнодушевное делание личности, так и ее включенность в преобразовательную работу, соединяются, для Федорова, и служение Марфы, самоотверженно стремившейся накормить и обогреть Господа, и служение Марии, всем своим существом внимавшей Его Слову:
«Чем меньше будет домашних забот, чем проще семейное хозяйство, тем более женщина должна будет преобразоваться из Марфы, заботящейся о многом, в Марию, избравшую благую часть — быть помощницею в труде воскрешения. Точнее сказать, нужно соединение этих двух типов, Мария не должна оставаться при одном созерцании, а Марфа не должна ограничивать свою деятельность пределами кухни» (т. 1: 289–290).
Вместе с сестрами Марфой и Марией Федоров соединяет и их брата Лазаря. Его истории и взаимоотношениям Лазаря со своим будущим Спасителем и Воскресителем Федоров посвящает ряд заметок религиозного содержания, а также набросков к статье «Религиозно-этический календарь». Называя, согласно церковному преданию, Лазаря другом Господа, он стремится раскрыть смысл этого определения и одновременно достраивает историю Лазаря, как достраивал историю благоразумного разбойника.
Федоров предполагает, что Лазарь и его сестры Марфа и Мария были детьми Симона Прокаженного, жителя Вифании, в доме которого в субботу, за пять дней до наступления иудейской Пасхи, была устроена вечеря для Христа, его учеников и друзей. В свое время Господь исцелил Симона от его страшной болезни, и это событие, подчеркивал Федоров, вернувшее отца детям, «было превосходным началом спасительной деятельности Крещенного от Иоанна, было Его первым живоносным подвигом» (т. 2: 57). Кульминацией же Христова служения стало воскрешение Лазаря: «первым делом у стен Иерусалима было исцеление отца, а последним, перед последним входом в Иерусалим, было воскрешение сына» (т. 2: 57). Вечеря, которую устроил Симон Прокаженный, стала, таким образом, «выражением благодарности бесстрашного отца за <…> возвращение сына к жизни» (т. 2: 57) и одновременно попыткой защитить Спасителя от грозящей ему гибели. Симон, уже знавший о решении синедриона в отношении Иисуса, совершает бесстрашный поступок: приглашая на вечерю «своего Исцелителя и Воскресителя своего сына», он делает ее открытой, собирает на нее множество народа, надеясь тем самым «побудить синедрион отказаться от принятого решения, показывая, какую преданность имеет народ к гонимому Пророку-Воскресителю» (т. 2: 57).
В Лазаре, сыне Симона Прокаженного, который вместе с сестрами присутствовал на этой вечере, Христос увидел ту бесконечную, трепетную любовь к отцу, которая жила и в Нем Самом, выражаясь в неоднократном исповедании любви к Отцу Небесному, и которая на другой, уже тайной вечере, прозвучит в Первосвященнической молитве за учеников, в заповеди им быть едино друг с другом, как Он с Отцом:
«Лазарь не был учеником, не был и апостолом; но он был выше того и другого. Вне всякого сомнения, он, подобно сестрам своим, был прилежным и понятливым слушателем учений Господа и распространителем их. Уже одним тем названием, которым удостоил его Христос, названием "друга" — другого Я — сказано так много, что и говорить далее ничего не осталось. В нем Сын Божий нашел то, что желал видеть в сынах человеческих, — нашел близкое подобие Себе. В сыне Симона Прокаженного Он открыл чистую детственность, не утратившуюся в зрелом возрасте; а детственность была основным требованием учения Христова. Страшная болезнь отца могла показать во всей силе любовь сына. Судьба отца, постигнутого ужасною болезнью, сделала Лазаря способным понять учение, которое не только возвышало униженных, но и обличало всю тщету богатства и всего, чем обычно превозносятся люди» (т. 2: 56–57).
В трактовке Федорова, Лазарь предстает «сыном человеческим», любящим отца, горько переживающим его болезнь и страдания и потому особенно чутко откликнувшимся благой вести о Царствии Божием, в котором не будет места болезни, страданию, смерти. Он — друг Христов, и на нем Христос являет, что означает полнота дружбы, сердечного, братского, любящего отношения к человеку: эта полнота обретается воскрешением, деятельным усилием любви, побеждающей смерть. Федоров называет воскрешение Лазаря «чудом дружелюбия» и подчеркивает, что оно представляет собой «высокий подвиг самоотверженной любви и мужества» (т. 2: 59), совершенный тогда, когда власть в религиозной общине иудеев принадлежала саддукеям, последовательно отрицавшим воскресение. Сознавая эту жертву Христа, исполненный благодарности и любви к Спасителю-Другу, Лазарь, по мысли Федорова, должен был не только присутствовать на Вифанской вечере, но и войти в Иерусалим вместе со Христом. И не только войти, засвидетельствовав перед народом факт совершенного Им величайшего чуда, но и быть рядом с Христом все Его крестные дни. «Нравственная необходимость, — подчеркивал философ общего дела, — требует, чтобы Лазарь сопровождал Христа до Голгофы, до могилы и умер бы при ней, если бы Христос не воскрес. Воскрешенный должен первый встретить Воскресшего и принять самое живое участие в проповеди о воскрешении, в уверении Фомы» (т. 3: 397). Более того, по той же нравственной необходимости, по тому же свидетельству любви воскрешенного ко Христу, Лазарь, в представлении Федорова, должен был присутствовать и при погребении Спасителя: «бережное снятие со креста, положение в пещеру, помазание израненного тела ароматными маслами — все это было свершено любящими руками не одного Иосифа, не одного Никодима, но и, конечно, Лазаря, даже преимущественно, надо думать, Лазаря» (т. 2: 58–59). Причем именно участие Лазаря придавало погребению воскресительный смысл, подобный тому, который проявлялся в народной похоронной причети:
«…благосердый плач его вместе с Иосифом и Никодимом был вызыванием своего Воскресителя к жизни, и самое помазание было пробуждением. В Лазаре действовал дух воскресившего его Христа» (т. 3: 397).
Творческие реконструкции евангельских сюжетов, созданные Федоровым, были проявлением того «всемирного реализма», который утверждался философом как метод нового миропреображающего искусства. Это искусство, верил мыслитель, сумеет увидеть в Евангелии неисчерпаемый источник для подлинного — совершеннолетнего — творчества, ведущего к совершеннолетию жизни. И тем самым сумеет предотвратить ту девальвацию и профанацию слова, которая стремительно захлестывала литературу Нового и Новейшего времени и которую вскоре точно выразит Н. С. Гумилев в стихотворении «Слово»:
«Но забыли мы, что осиянно Только слово средь земных тревог, И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово это — Бог.
Мы ему поставили пределом Скудные пределы естества, И, как пчелы в улье опустелом, Дурно пахнут мертвые слова»16.
Для Федорова не просто «дурно пахнут мертвые слова» — для него невозможно употреблять слова всуе, не греша против заповеди об Имени Божием, Которое нельзя произносить «напрасно». Философ стремился к тому, чтобы всякое прозвучавшее или мысленно произнесенное слово возводило к Слову как «Солнцу правды» и одновременно проявляло тот священный смысл, который носило оно в родовом быту, где эпос представал словом о предках, нес в себе память всего народа, а литература была коллективным деянием. Такой смысловой ракурс, соединявший идею богодухновенности слова с идеей многоединого участия в творческом акте, радикально менял отношение к авторству, снимал всякие вопросы о «литературной собственности» и праве на единоличное распоряжение плодами своего труда (т. 2: 400). Культура, по Федорову, творится всеми и должна быть достоянием всех. И эту внутреннюю соборность культурного творчества при внешнем наличии у данного текста единичного автора особенно проявляет история литературы. Исследуя биографию писателя, его окружение, восстанавливая круг чтения и общения, всевозможные прямые и косвенные влияния, наука о литературе тем самым обнаруживает «незримых» участников творческого процесса, не менее важных для становления художественного целого, чем конкретный автор произведения.
Подлинная история словесности, по Федорову, есть история не индивидуального подвига, а общего дела. В этом особом отношении к авторству и коренится практикуемый мыслителем проективный подход к чужому тексту, не только допускающий, но и требующий его продолжения, развития, роста, побуждающий к соработничеству с автором даже тогда, когда автор умер, ибо литература — с исповедуемой мыслителем религиозной точки зрения — не сфера соперничества авторских эгоизмов, а сфера сотрудничества участников «дела отеческого, общего для всех и родного, близкого, своего для каждого» (т. 1: 396).
Именно такой, в полном смысле слова религиозный подход к слову и тексту, творимому словом, находит Федоров у евангелистов и святоотеческих толкователей Нового Завета. Немыслимо представить себе соперничество и претензии на авторство и авторское право у Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Равно как непредставимо оно и у Отцов Церкви, помогающих проникнуть в суть Благой вести, Божеского задания человечеству. А потому и писатели современности, коль скоро они обратятся к Четвероевангелию, его сюжетам и действующим лицам, призваны не соперничать друг с другом в оригинальности трактовок, а попытаться поставить себя на место евангелистов и любящим сердцем и образным словом проникнуть сквозь толщу веков, разглядеть и представить, опираясь на творческое воображение, на благодатную силу вдохновения, рождающийся в евангельском тексте целостный образ мира и человека.
Список литературы Евангельский текст и идея проективности литературы в наследии Н. Ф. Федорова
- Андрианова И. С. Предисловие // Евангельский текст в русской словесности: сб. тезисов докладов X Всерос. науч. конф. с межд. уч. (Петрозаводск, 21–24 сентября 2020 г.) / отв. ред. И. С. Андрианова. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2020. С. 17–19 [Электронный ресурс]. URL: https://philolog.petrsu.ru/Gospel_text/EvangelskyText2020.pdf (10.08.2023).
- Баршт К. А. «Научите меня любви…». К вопросу о Н. Ф. Федорове и Ф. М. Достоевском // Простор. 1989. № 7. С. 159–167.
- Гачева А. Г. Ф. М. Достоевский и Н. Ф. Федоров: встречи в русской культуре. М.: ИМЛИ РАН, 2008. 576 с.
- Гачева А. Г. «Идеал ведь тоже действительность…»: русская философия и литература. М.: Академ. проект, 2019. 734 с.
- Гачева А. Г. Человек и история в зеркале русской философии и литературы. М.: Водолей, 2021. 700 с.
- Захаров В. Н. Русская литература и христианство // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. Вып. 3. С. 5–11 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2370 (10.08.2023). DOI: 10.15393/j9.art.1994.2370. EDN: RUYJPT
- Комарович В. Л. Отцеубийство и учение Н. Ф. Федорова о «телесном воскрешении» // Комарович В. Л. «Весь устремление»: статьи и исследования о Ф. М. Достоевском / сост., отв. ред. и автор вступ. ст. О. А. Богданова. М.: ИМЛИ РАН, 2018. С. 312–341.
- Семенова С. Г. Глаголы вечной жизни: евангельская история и метафизика в последовательности Четвероевангелия. М.: Академ. проект, 2000. 475 с.
- Семенова С. Г. Русская литература XIX–XX вв.: от поэтики к миропониманию. М.: Академ. проект, Парадигма, 2016. 890 с.
- Семенова С. Г. Философ будущего: Николай Федоров. М.: Академ. проект, Парадигма, 2019. 638 с.
- Титаренко Е. М. Память и поучение: Николай Федоров о дидактической сущности искусства // Духовно-нравственное воспитание. 2021. № 1. С. 54–64.
- Young G. M. The Russian Cosmists: the Esoteric Futurism of Nikolai Fedorov and His Followers. Oxford University Press, 2012. 296 p.