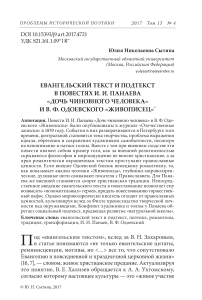Евангельский текст и подтекст в повестях И. И. Панаева "Дочь чиновного человека" и В. Ф. Одоевского "Живописец"
Автор: Сытина Юлия Николаевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.15, 2017 года.
Бесплатный доступ
Повести И. И. Панаева «Дочь чиновного человека» и В. Ф. Одоевского «Живописец» были опубликованы в журнале «Отечественные записки» в 1839 году. События в них разворачиваются в Петербурге того времени, центральной становится тема творчества, проблема выражения идеала, обретения и сохранения художником самобытности, несмотря на непонимание и натиск толпы. Вместе с тем при внешнем сходстве эти повести являют собою пример того, как за внешней религиозностью скрываются философия и мироощущение не вполне христианские, а за ярко романтически окрашенным текстом проступают православные ценности. Если внешне Одоевский близок немецкому романтизму, то, как показывает анализ поэтики «Живописца», глубинно-мировоззренческие, духовные нити связывают писателя с Православием. Для Панаева же внешней становится скорее христианская традиция. Непосредственное введение евангельского текста в повествование позволяет ему возвысить «положительных» героев, придать повествованию торжественный пафос. Однако мировоззренчески писатель отходит от православных ценностей, культивируя вслед за Фихте превосходство творческой личности над окружающими. Конфликт художника и толпы у Панаева обретает социальный подтекст, предвещая развитие «натуральной школы».
Евангельский текст и подтекст, поэтика, романтизм, традиция, трансформация, и. и. панаев, в. ф. одоевский
Короткий адрес: https://sciup.org/14749038
IDR: 14749038 | УДК: 82.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2017.4721
Текст научной статьи Евангельский текст и подтекст в повестях И. И. Панаева "Дочь чиновного человека" и В. Ф. Одоевского "Живописец"
Под «евангельским текстом», вслед за В. Н. Захаровым, в статье понимаются «не только евангельские цитаты, реминисценции, мотивы, но <…> все то, что сопутствовало Евангелию в повседневной и праздничной церковной жизни» [16, 7], — словом, живое христианское предание. Актуализируя это понятие, В. Е. Хализев обращается к А. А. Ухтомскому, согласно которому настоящее культуры — это «живое участие в живой реке предания» [23, 26]. В России предание неразрывно связано с христианством, причем для А. А. Ухтомского «неприемлемо интеллигентское отвержение народных верований как сферы предрассудков» [23, 25]. И народная культура, и классическая литература осознаются им «как органическая часть того предания, в мире которого жили и живут русские люди. <…> “И Гончаров, и Тургенев, и Толстой, и Достоевский — все это продолжатели пушкинско-гоголевского предания”» [23, 25].
Эти суждения созвучны методологическим установкам ряда современных исследователей. Так, И. А. Есаулов, размышляя о новых филологических категориях в изучении русской классики, формулирует задачу исторической поэтики, исходя из того, «как ее понимал Веселовский: “определить роль и границы предания в процессе личного творчества”», уточняя при этом — «христианского предания», — и обосновывает необходимость «рассматривать поэтику русской литературы в контексте православной культуры» [13, 22].
Вместе с тем вопрос о методологии, инструментарии, нужном для адекватного изучения отражения Православия, евангельского текста в художественной литературе, в последние десятилетия становится предметом научной полемики. Ряд ключевых в методологическом отношении положений предлагает В. Н. Захаров, в частности, в статье с характерным названием «Ответ по существу», отзываясь на суждения А. М. Любомудрова. В. Н. Захаров подчеркивает: «Литература не есть Церковь, художественное творчество не есть богословие, никто из русских гениев не мнил себя священником. Опасно путать одно с другим. <…> Слишком разные жанры — богословский трактат и художественное произведение. Выявление “догматики” художественного текста, если не подгонять решение к известному ответу, почти всегда чревато ересью» [15, 16]. Не менее характерно название работы И. А. Есаулова «О Сцилле либерального прогрессизма и Харибде догматического начетничества в изучении русской литературы», где исследователь также подчеркивает нелинейность отражения христианского культурного кода в художественных произведениях: «При всем уважении к богословской учености, подход к литературе с этой позиции вряд ли способен заменить филологию — даже и при описании христианской традиции» [12, 530].
Художественные произведения отнюдь не мыслились писателями прямой проповедью, и православное мироощущение зачастую проступает в них подспудно. В. Ф. Одоевский полагал, что литература не должна прямо учительствовать, ведь художник не догматик и не проповедник: «Здесь, в этом магическом влиянии поэзии, заключается благое, умиряющее страдания действие на душу человека, а не в математическом выводе суждений о том, что добродетель полезна, а порок вреден, чего многие добиваются от поэзии, и что в ней было бы так же странно, как грациозное балетное телодвижение при подаче милостыни»1.
Не всегда прямая декларация евангельских истин и наличие христианских мотивов в художественном произведении свидетельствует о его православном духе, но и внешнее отсутствие солидаризации с христианской традицией не означает, что в тексте не заложено православное мироощущение, т. е. евангельский подтекст. Наглядной иллюстрацией этого тезиса — ситуации несовпадения текста и подтекста — могут служить повести И. И. Панаева «Дочь чиновного человека» и В. Ф. Одоевского «Живописец».
Повести эти объединяет многое: обе они опубликованы в журнале «Отечественные записки» в 1839 году. События, в них описанные, разворачиваются в Петербурге того времени, характер героев отчасти обусловливается социальным статусом, определенную роль играет изображение быта, однако эти черты, предвещающие появление «натуральной» школы, пока еще не решают особой художественной задачи и остаются внешними атрибутами произведений, тесно связанных с традициями романтизма.
Здесь можно обозначить еще одну проблему истории и теории литературы — определение романтизма. Как эпоха в истории культуры, романтизм — явление пестрое и многообразное. По широко известному остроумному выражению П. А. Вяземского, «романтизм, как домовой; многие верят ему; убеждение есть, что он существует, — но где его приметы, как обозначить его, как наткнуть на него палец?» (цит. по: [7, 36]). Коренные различия между западноевропейским и русским романтизмом не раз становились предметом исследования [1]–[6]; [9]; [10]; [17]; [18]; [24], некоторые размышления будут пунктирно предложены и в этой статье. В данном контексте под романтическим мироощущением понимается чуждая христианству фихтианская философия сверхличности, согласно которой «Я превращается в такую точку в мире, с которой и от которой отсчитываются все мировые смыслы» [17, 29]. Как пишет В. М. Жирмунский о немецком романтизме, «перед нами святые прозрения людей более чутких и глубоких, чем обыкновенные люди» [14, 72].
Возвращаясь к повестям, следует отметить и их тематическое сходство: речь идет об одной из ключевых для романтизма проблем — проблеме творчества, и даже раскрывается она, на первый взгляд, в схожем ключе. Как пишет П. Н. Сакулин о «Живописце» Одоевского, это произведение основано на «одном из самых популярных сюжетов в нашей литературе 30-х годов
В повести Панаева «Дочь чиновного человека» конфликт строится непосредственно на романтическом противопоставлении высоких творческих натур (художника и его возлюбленной) окружающей их толпе. Герои повести четко делятся на положительных и отрицательных, причем ангельская природа первых, как и демоническая природа вторых, подчеркивается почти буквально. Так, чиновница Аграфена Петровна, служащая олицетворением низости и пошлости, появляется «в чепце с кружевными крылышками, украшенном лентами цвета адского пламени»2 (здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, курсив мой. — Ю. С.). Образ художника, напротив, идеализирован: живописец, с детства приверженный искусству, несмотря на нищету, старается сохранить верность своему высокому назначению и вместе с тем как любящий сын содержит бедную мать. Заветной мечтой художника становится воплощение на живописном полотне образа Ревекки. И прототип для «этой очаровательной девушки, которая уже при самом рождении наречена Господом женою Исаака» (Панаев, 37), он находит в дочери генерала — Софье. Она являет собою некое высшее существо, ангела во плоти. Даже знакомство читателя с героиней происходит в день ее именин. Софья часто молится Богу, плачет, читает Евангелие, восхищается родной природой и простой деревянной церковью, «благоговейно созерцает необъятное величие Творца в творении» (Панаев, 65).
Софья никого прямо не порицает, хотя и сознает себя выше светской «черни». В финале героиня умирает с молитвой на устах и всепрощением в сердце. Но в начале повести Софье снится вещий сон, в котором художник, потрясенный окружающим цинизмом, осуждает низкую толпу, и строгий суд его доходит до упреков Богу:
Эти-то люди даруют нам славу? от них-то зависит наша участь? Они поручают нас бессмертию ?.. Боже! Боже! для чего ты обнажил передо мною эту тайну? Мне легко было в моем неведении, я думал, что глас народа — твой глас, Боже! ( Панаев , 31).
Стоит заметить, что, как бы ни был горд герой Панаева, он жаждет славы, причем именно в ней он видит бессмертие («Они поручают нас бессмертию ?»). Однако художника приводит в неистовство необходимость кланяться перед сильными мира сего, превращать свое искусство в ремесло. «…вы-прашивать, ради Христа, подаянья, позволения за какую-нибудь сотню рублей малевать безобразное лицо, тратить на это Божий дар !» ( Панаев , 36), — горестно сетует герой уже наяву.
В тексте Панаева возникает с виду христианский пафос, звучит евангельский текст — прямое обращение к Богу, вера в Его милосердие, признание своего таланта как дара. Но согласуется ли с православным мироощущением явное осуждение одних и превозношение других? Может ли быть «безобразное лицо», если каждый человек — образ Божий? И потому, как представляется, несмотря на появление евангельского текста, мировоззрение Панаева остается сугубо романтическим с присущим философии романтизма фихти-анским культом творческой личности, противостоящей окружающей ее толпе. Такое несовпадение текста и подтекста в повести Панаева может служить иллюстрацией к размышлениям И. А. Есаулова, который, подчеркивая связь авангарда и романтизма, пишет: «…несмотря на всю увлеченность романтиков христианскими аллюзиями, мы имеем дело с весьма поверхностным следованием истончившейся к этому времени христианской традиции. Вероятно, сама эта традиция, с точки зрения романтиков, может быть отнесена к несовершенной сфере не-Я, требующей решительного вмешательства со стороны художника и не менее решительной трансформации и “улучшения”» [12, 441].
Что касается Панаева, то его сложно назвать чистым романтиком — с воцарением «натуральной» школы он станет писать физиологические очерки вполне в ее духе и будет органично чувствовать себя в разночинной среде. Для него конфликт художника и толпы родствен конфликту разночинца с высшим обществом, как это, например, было в его повести «Сегодня и завтра» (1838) (см. подробнее: [21]). Недаром и анализируемое произведение называется «Дочь чиновного человека» — уже в названии фиксируется значимость социального статуса, которая окажется важной и при раскрытии конфликта материально и классово ущербного художника по отношению к высокопоставленным чиновникам. Таким образом, в творчестве Панаева как раз прослеживается та самая генеалогия авангарда, о которой пишет И. А. Есаулов, — связь идеологов и певцов революции с романтизмом.
На первый взгляд, идея возвышения и превосходства творческой личности над толпой выражается и в «Живописце» Одоевского (именно так, например, понимал эту повесть П. Н. Сакулин). Повествование здесь ведется от лица гробовщика, который, в свою очередь, пересказывает рассказ Марфы Андреевны, простой мещанки, занимающейся шитьем шуб. Она искренне грустит об умершем художнике Шумском, которого любила, но совершенно не понимала. Не отличая искусства от ремесленничества, Марфа Андреевна не признает права живописца на свободу творчества: «Что ему ни закажут, все перехитрит, к стене не прислонишь»3. Мучительный творческий поиск художника подчеркивается полным непониманием рассказчицей трагизма ситуации:
…он, сердечный, не ест, не пьет, только и твердит: «Вот погоди, найду, непременно найду». Чего уже он, клада, что ли, искал, не могу тебе сказать ( Одоевский , 39).
Непонимание усугубляется искажением таких заветных слов, как талант — «талан», художник — «гудошник», что значит «обманщик».
Если панаевскому живописцу удается найти прототип своего идеала в жизни и выразить его на полотне, то Шумский только приближается к его постижению — воплощению некой «ладóнной» (при публикации в журнале в слове поставлено ударение), которая так и остается загадкой ( Одоевский , 39). По мнению П. Н. Сакулина, за «ладонной» скрывается Мадонна, однако прямых указаний на это в тексте нет. И вряд ли бы стал Одоевский даже в искаженном просторечием варианте писать Мадонну со строчной буквы, тогда как у него это слово всегда встречается с заглавной. Более того, на картине, оставшейся после смерти Шумского, в числе прочего, изображается и Мадонна, т. е. этот образ еще до озарения художника находил у него свое воплощение.
Можно предположить, что Шумский хотел изобразить родной пейзаж, набросок которого Марфа Андреевна приняла за «ладонь» в значении «площадка для молотьбы на гумне», «временный ток, покрытый льдом, для молотьбы зимой», «настил из прутьев, досок, который служит основанием для стога»4, тем более, что озарение находит на Шумского именно после дальней загородной прогулки до Парголова. Однако сам Одоевский был скуп на пейзажи и любование природой в своих произведениях, поэтому высказанная догадка остается только одной из возможно верных. Более того, весьма вероятно, что в художественный замысел писателя входило именно непонимание читателем идеала, наконец-то найденного Шумским, ведь и Марфа Андреевна с сомнением говорит, что художник стал « какую-то ладóнную что ли писать» ( Одоевский , 39).
В подобном умолчании, нежелании срывать покров с потаенного угадываются сокровенные для Одоевского размышления о непередаваемости «невыразимого», о проблеме самой возможности выражения и понимания, связанной с превратностями языка (слова, звука, визуальных образов (см. подробнее: [20])). Помимо романтического мировосприятия, отсылающего к немецкой философии, это убеждение писателя берет истоки в русской культуре, для которой «оказывается принципиально невозможной вполне адекватная экспликация “самого главного” (причем не только живописными средствами, но и посредством слова )» (курсив И. А. Есаулова. — Ю. С .) [11, 127]. И в этом Одоевский предстает как выразитель характерного для православного сознания «этикоэстетического скрытого и не всегда осознаваемого реципиентами глубинного подтекста, согласно которому наиболее распространенный в современной культуре тип визуальности решительно отвергается как недолжный иллюзионизм, как такого рода внешнее подобие, которое затрудняет зрителю подлинное проникновение, молитвенное созерцание потаенного, внутреннего мира создаваемых визуальных образов» (курсив И . А . Есаулова. — Ю. С .) [11, 122–123].
Представления о ценностях живописца и его окружающих в повести Одоевского противоречат друг другу, что приводит к неизбежному конфликту. Шумский не хочет угождать купцу и писать портреты его дочери и зятя в соответствии со взглядами купца на прекрасное, т. е. отказывается творить в угоду публике. Но если герой Панаева говорит о « безобразных лицах», то живописец Одоевского, напротив, находит лица прекрасными. Его возмущает то, что красивые от природы люди уродуются дорогими украшениями и парадными мундирами — именно это (нежелание участвовать в искажении первообраза в человеке) диктует отказ Шумского писать парадные портреты, в чем, безусловно, проявляется сила и подлинность личности художника.
Однако если Шумский превосходит окружающих талантом, то он явно уступает им в чувствах любви и искренности, в заботе о ближнем. Живописец вовсе не думает о своей супруге, не видит ни ее лишений, ни ее глубокой любви к нему.
Шумский ищет идеала в искусстве, совершенно не замечая окружающей жизни, и в этом он неожиданно оказывается близок пушкинскому Сальери. Размышляя об этом герое «маленькой трагедии», В. Е. Хализев отмечает, что «мрачное и зловещее» в облике этого героя во многом обусловливает присущая ему «отчужденность от всего и вся, кроме музыки, одержимость пребыванием на “высотах духа”, некая “надмирная” настроенность, связанная с душевной холодностью и презрением к “живой жизни”» [22, 147], тогда как «свободно-ответственная вовлеченность людей в бытие <…> сопряжена в христианских представлениях не только со скорбью, состраданием, покаянием, но и с приятием земного мира, с весельем и радостью» [22, 141]. Именно в «упрямом и надменном» отречении Сальери от «живой жизни» исследователь видит истоки «трагической вины» героя [22, 149]. Так и у Одоевского: именно полная замкнутость художника, сосредоточенность на искусстве лишают его жизненных и творческих сил, ведут к неминуемой гибели. Шумский впадает в односторонность, которая оборачивается невольным равнодушием и жестокостью.
Мысль о пагубности всякой односторонности — одна из сокровенных для Одоевского, она звучит и в других его повестях о гениальных натурах. Так, в ночи девятой «Русских ночей» (1844) своеобразным подведением итогов всего романа становится чтение Фаустом своим друзьям сцены из рукописи, в которой Судилище по очереди вопрошает героев рукописи: «Подсудимый! понял ли ты себя? нашел ли ты себя? что сделал ты с своею жизнию?». На ответы персонажей выносятся следующие вердикты:
П ИРАНЕЗИ :
Подсудимый! твоя жизнь принадлежала людям, а не тебе!
Э КОНОМИСТУ:
Подсудимый! жизнь твоя принадлежала тебе, а не людям.
Г ОРОДУ БЕЗ ИМЕНИ :
Подсудимый! твоя жизнь принадлежала не тебе, но чувству.
Б ЕТХОВЕНУ:
Подсудимый! жизнь твоя принадлежала тебе, а не чувству.
И МПРОВИЗАТОРУ :
Подсудимый! жизнь твоя принадлежала искусству, а не тебе!
С ЕБАСТИЯНУ БАХУ:
Подсудимый! жизнь твоя принадлежала тебе, а не искусству 5 .
Явная противоречивость вердиктов вызывает, казалось бы, справедливую насмешку у Сегелиеля и недоумение друзей Фауста, однако последний поясняет идею Судилища в эпилоге:
…когда не существует равновесия и гармонии между элементами, — организм страждет; и таков педантизм в этом законе, что ничто не спасает от сего страдания: ни развитие воли, ни дар творчества, ни сверхъестественное знание, — будь он страною, обладающею всеми средствами силы, называйся он Бетховеном, Бахом, — организм страждет, ибо не выполнил полноты жизни6 (курсив Одоевского. — Ю. С .).
Вопрос Судилища вполне мог бы быть задан и Шумскому — и он также был бы осужден как не выполнивший своего предназначения, получив вердикт, данный Бетховену или Баху. Однако Судилище в «Русских ночах» не выступает в качестве строгой морали автора. Не грозным приговором заканчиваются «Русские ночи», но порывом в грядущее, верой во всепрощение, в великое будущее человечества (см. подробнее: [19]). Так и в «Живописце» нет осуждения ни простых людей, ни художника, недаром носящего имя Данила (Даниил), в переводе с греческого означающее «судья мой — Бог».
Шумский до конца остается верным творчеству и не делается ремесленником. Своего рода альтернативу такого пути Одоевский показывает на примере судьбы гробовщика-рассказчика, который смог притерпеться к жизни, стать мастеровым, хотя некогда был скульптором, и обрести простое человеческое счастье.
Однако гробовщик и даже Марфа Андреевна не ставятся автором ниже Шумского. Ее имя заставляет вспомнить о библейской Марфе, которой Христос скажет: «Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее»
(Лк. 10:38–42). Если путь художника — это путь Марии, то и у Марфы свой путь, и она угодна Господу, хоть и «суетится о многом». Как отмечает Б. И. Гладков, «дружеские отношения Иисуса к этой семье доказывают, что все члены ее, в том числе и Марфа, были хорошие люди, вполне достойные любви Его» [8].
Рассказ Марфы Андреевны, таким образом, не только подчеркивает трагизм жизни художника, полное непонимание, царящее между ним и его близкими, но и показывает возможность иной правды — правды простых людей, правды Марфы, пусть не наделенной ни малейшим художественным чутьем, но имеющей какой-то свой талант, человеческий. Как представляется, в «Живописце» Одоевский по-своему предвосхищает Ф. М. Достоевского, у которого «соборно организованный “хор” голосов пытается преодолеть этот монологизм (“ложь”) индивидуальной точки зрения» [11, 128].
Проведенный сравнительный анализ позволяет сделать следующие выводы. Повести И. И. Панаева «Дочь чиновного человека» и В. Ф. Одоевского «Живописец» являют собою пример того, как в художественном тексте за внешней религиозностью могут скрываться философия и мироощущение не вполне христианские, а в подтексте романтически окрашенного произведения могут проступать православные ценности. Если внешне Одоевский, безусловно, близок немецкому романтизму, то мировоззренческие, духовные нити, проявляющиеся в подтексте, связывают его с Православием, «живой рекой» многовекового предания русской культуры. Панаев же как нечто внешнее осознает скорее христианскую традицию. Непосредственное введение евангельского текста становится для него приемом, позволяющим возвысить «положительных» героев, придать повествованию торжественный пафос. Однако мировоззренчески писатель отходит от православных ценностей, фихтиански культивируя превосходство творческой личности над окружающими. Таким образом, появление евангельского текста или же его отсутствие не всегда может свидетельствовать о духовном содержании и христианской или не-христианской аксиологии произведения — главную роль в раскрытии его смысла играет подтекст, проступающий в художественном целом сочинения, выявить который позволяет филологический анализ его поэтики.
Примечания
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Русская классическая литература в мировом культурно-историческом контексте», № 15-34-11091а (ц).
-
1 Русский инвалид. Литературные прибавления. 1837. № 45. С. 437. Здесь и далее цитаты из дореволюционных источников приводятся в современной орфографии и пунктуации.
-
2 Панаев И. И. Дочь чиновного человека // Отечественные записки. 1839. Т. 3. № 4–5. Отд. 3. С. 23. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием фамилии автора и страницы в круглых скобках.
-
3 Одоевский В. Ф. Живописец // Отечественные записки. 1839. Т. 6. № 10–11. Отд. 3. С. 38. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием фамилии автора и страницы в круглых скобках.
-
4 Словарь русских говоров Сибири: в 5 т. Новосибирск: Наука, 2001. Т. 2. С. 191.
-
5 [Одоевский В. Ф.] Сочинения князя В. Ф. Одоевского: в 3 ч. СПб.: Типография Э. Праца, 1844. Ч. 1. С. 290–293.
-
6 Там же. С. 382.
THE GOSPEL TEXT AND SUBTEXT
IN THE STORIES “THE DAUGHTER
OF A HIGH OFFICIAL” BY IVAN PANAYEV
AND “THE PAINTER” BY VLADIMIR ODOYEVSKY
Дата поступления в редакцию: 01.08.2017
Список литературы Евангельский текст и подтекст в повестях И. И. Панаева "Дочь чиновного человека" и В. Ф. Одоевского "Живописец"
- Алексеев М. П. Пушкин и мировая литература. -Л.: Наука, 1987. -613 с.
- Алпатова Т. А., Киселева И. А. Человек -идеал -общество: проблемы аксиологии литературы//Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. -2010. -№ 2. -С. 136-141.
- Аношкина В. Н. Русский романтизм: В. А. Жуковский, А. С. Пушкин. -М.: ИИУ МГОУ, 2014. -400 с.
- Аношкина-Касаткина В. Н. Православные основы русской литературы XIX века. -М.: Пашков дом, 2011. -384 с.
- Аношкина-Касаткина В. Н. Романтический психологизм М. Ю. Лермонтова и Ф. И. Тютчева//Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. -2013. -№ 1. -С. 24-30.
- В. Г. Вакенродер и русская литература первой трети XIX века: монография. -Тверь: ТГУ, 1995. -96 с.
- Ванслов В. В. Эстетика романтизма. -М.: Искусство, 1966. -397 с.
- Гладков Б. И. Толкование Евангелия//. -URL: https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/tolkovanie-evangelija/(25.07.2017).
- Гонсалес А. А. «Живой мертвец» и «Двойник», или еще раз о фантастике Достоевского (из наблюдений переводчика)//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ. -2016. -Вып. 4. -С. 170-183 . -URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1482757961.pdf (25.07.2017).
- Грешных В. И. Фрагмент о фрагменте//Слово.ру: Балтийский акцент. -2012. -№ 4. -С. 129-139.
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. -М.: Круг, 2004. -560 с.
- Есаулов И. А. Постсоветские мифологии: структуры повседневности. -М.: Академика, 2015. -608 с.
- Есаулов И. А. Русская классика: новое понимание. -СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2017. -550 с.
- Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и современная мистика. -СПб.: Аксиома, 1996. -232 с.
- Захаров В. Н. Ответ по существу//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ. -2005. -Вып. 7. -С. 5-16 . -URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2564 (25.07.2017).
- Захаров В. Н. Русская литература и христианство//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ. -1994. -Вып. 3. -С. 5-11 . -URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2370 (25.07.2017).
- Михайлов А. В. Обратный перевод. -М.: Языки русской культуры, 2000. -848 с.
- Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский. Мыслитель. -Писатель: в 2 т. -М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1913. -Т. 1. -Ч. 2. -479 с.
- Сытина Ю. Н. «Держитеся любове, ревнуйте же к дарам духовным, да пророчествуете..»: к вопросу о «религиозных спорах» М. Ю. Лермонтова и В. Ф. Одоевского//Литература и История. XIX век. Сборник научных трудов к 85-летию МГОУ и 190-летию Дома Трудолюбия (Елизаветинского училища). -М.: ИИУ МГОУ, 2016. -Вып. VI. -С. 32-39.
- Сытина Ю. Н. Икона в художественной прозе В. Ф. Одоевского//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ. -2015. -Вып. 13 -С. 161-173 . -URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1449768369.pdf (25.07.2017).
- Сытина Ю. Н. «Хорошее жалованье, приличная квартира, стол, освещение, отопление»: искус героя на страницах «Литературных прибавлений к "Русскому инвалиду"»//Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. -2016. -№ 3 (94). -С. 62-65.
- Хализев В. Е. «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина в свете теории личности XX века//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ. -2005. -Вып. 7. -С. 138-155 . -URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2588 (25.07.2017).
- Хализев В. Е. Интуиция совести (теория доминанты А. А. Ухтомского в контексте философии и культурологии XX века)//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ. -2001. -Вып. 6. -С. 21-42 . -URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2512 (25.07.2017).
- Эпоха романтизма: из истории международных связей русской литературы. -Л.: Наука, 1975. -284 с.