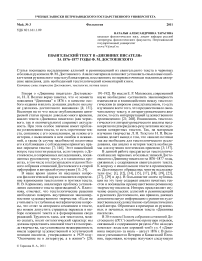Евангельский текст в «Дневнике писателя» за 1876-1877 годы Ф.М. Достоевского
Автор: Тарасова Наталья Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (116), 2011 года.
Бесплатный доступ
Творчество достоевского, текстология, поэтика текста
Короткий адрес: https://sciup.org/14749877
IDR: 14749877
Текст статьи Евангельский текст в «Дневнике писателя» за 1876-1877 годы Ф.М. Достоевского
Говоря о «Дневнике писателя» Достоевского, И. Л. Волгин верно заметил, что «с момента появления “Дневника” в 1876 г. в качестве особого издания и вплоть до наших дней его тексту не уделялось достаточного внимания» [4; 151]. Несмотря на то что после опубликования цитируемой статьи прошло довольно много времени, анализ текста «Дневника писателя» (как чернового, так и окончательного) сохраняет актуальность. При этом особое значение имеет проблема установления текста, то есть «прочтение текста, связанное с его осмыслением, на основе его истории, с выявлением в нем ошибок и искажений, а также (в случае надобности) подготовка его к публикации с соблюдением принятых правил передачи текста» [7; 146]. Этот важнейший вопрос текстологии решается, если говорить о Достоевском, в современных исследованиях, посвященных рукописному тексту, и в эдиционных проектах, в том числе в петрозаводском издании Полного собрания сочинений Достоевского в старой орфографии и авторской пунктуации [11; 24].
В наше время одним из насущных вопросов филологической науки становится определение взаимосвязи текстологии и поэтики текста. Н. В . Корниенко, анализируя проблему установления основного текста произведений А. Платонова, отмечает, что текстологические решения необходимо поверять внутренними закономерностями художественного творчества: «Если не учитывать те глубинные метафизические вопросы, что стоят за авторским сомнением в тексте, мы можем допустить страшные перекосы в выборе основного текста и в формировании свода редакций. Трудность здесь для текстолога, можно сказать, носит онтологический характер: мы должны представить основной текст в том периоде творчества, где установка на незавершенность имела характер художественной и эстетической позиции писателя, утверждавшего в 1929 году: “Окончание не в литературе, а в жизни”» [20;
191–192]. По мысли Е. Р. Матевосян, современной науке необходимо «установить закономерность взаимосвязи и взаимодействия между текстологическим (в широком смысле) анализом, то есть изучением всего того, что предшествовало окончательному тексту, и литературоведческим анализом, то есть интерпретацией художественного произведения» [21; 268]. Взаимосвязь текстологического и литературоведческого анализа неоднократно подтверждалась результатами исследования конкретных текстов. Так, на материале изучения творчества Л. Н. Толстого Н. П. Великанова делает вывод о том, что «анализ поэтики так же необходим для текстологического исследования, как анализ и история текста необходимы для изучения поэтических приемов» [3; 157].
В данной работе предлагается текстологический анализ черновых и беловых записей Достоевского к «Дневнику писателя» за 1876–1877 годы, связанных с содержанием евангельского текста. К вопросу о евангельском тексте в произведениях Достоевского обращались многие исследователи (см.: [1], [12], [14], [15], [17], [18], [19], [25], [27], [29] и др.). В большинстве своем публикации на эту тему содержат анализ печатных текстов и посвящены преимущественно романному творчеству писателя. Интерес представляет изучение евангельских аллюзий и реминисценций в рукописях Достоевского, как правило, дающих дополнительную информацию о развитии худо-жественныхихудожественно-публицистических идей автора. Обратимся к примерам из рукописных и печатных источников текста «Дневника писателя».
В 30-томном Полном собрании сочинений Достоевского (ПСС) ошибочно пропущен отрывок, связанный с содержанием раздела «Что на водах помогает: воды или хороший тон?» гл. 4 «Дневника писателя» за июль – август 1876 г. В рукописи упоминаются Печорин и Кавказский Пленник, персонажи, которые получают следующую авторскую характеристику: «злы, нетерпѣливы /и хлопочутъ о себѣ однихъ искренно /и безъ ма-ски>/ и такимъ образомъ/ нарушаютъ гармонiю /хорошаго тона/ /который изъ всѣхъ силъ дол-женъ дѣлать видъ что всякiй живетъ для всѣхъ, а всѣ для всякаго/».
Далее на полях справа следует продолжение, не отраженное в ПСС : «и что этимъ только вс ѣ и всякiй и счастливы. Скажите на милость, васъ спрошу я<:> зач ѣ мъ хорошему тону воровать было эту истину изъ евангелiя? Очевидно вкусъ подсказалъ, чувство красоты подсказало. < Левее от текста : Очевидно ~ чувство красоты подсказало – помета : Соприкосновенiе съ природой>» (РГБ. Ф. 93. I. 2. 10. Л. 108).
Соединение этих заметок в целое высказывание актуализирует евангельский смысл первой, опубликованной и известной части записи. Понятие «вкуса» появляется в «Дневнике писателя» в строках о цветах: «Цветы – это надежды. Сколько вкуса в этой идее. Вспомните текст: “Не заботьтесь во что одеться, взгляните на цветы полевые, и Соломон во дни славы своей не одевался как они, кольми паче оденет вас Бог”. В точности не упомню, но какие прекрасные слова! В них вся поэзия жизни, вся правда природы» [10; Т. 23, 87]. В Евангелии сравнение с цветами сопутствует идее освобождения от внешнего и заботы о внутреннем, духовном: «Ищите же, во-первых, царствия Божия и правды Его, и все сие приложится вам» (Мф. 6:33). В тексте Достоевского евангельская аллюзия возникает в результате противопоставления истинно христианского идеала подобию «золотого века» в обществе, живущем по правилам «хорошего тона». Последнее обстоятельство тематически сближает рассуждения о «хорошем тоне» с положениями, высказанными в январском выпуске «Дневника писателя» 1876 года (§ IV «Золотой век в кармане» гл. 1). В черновике Достоевского соединяются нравственные представления («всякий живет для всех, а все для всякого») и эстетические («чувство красоты подсказало»), и такое сочетание воспринимается как характеристика природой заданного, естественного, первоначального, догреховного состояния человека – в рукописи появляется помета «Соприкосновение с природой», а в окончательном тексте звучит мысль о том, что добро есть «правда природы», следуя которой «люди в простоте и в веселии сердца будут венчать друг друга цветами искренней человеческой любви» [10; Т. 23, 87].
В декабрьском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год Достоевский, как известно, обращается к одному из интересовавших его судебных дел – уголовному процессу Корниловой, вытолкнувшей свою падчерицу из окна. В публикации чернового автографа этого выпуска встречаем ошибки двух типов – неточное чтение и неверное отражение порядка записи: «Вы спрашива- ете: “Из скольких случаев жестокости <Было: жестокого обращения> с детьми один подпадает судебному рассмотрению?” Ну, а литературному рассмотрению много ли подпадает? Кроне-берг. <Было: Корнилова> Мало кто обратил внимание. Да и не по мне кто, с тем, чтоб сказать с негодованием, от сердца.
Секли поступком.
А я сказал, и статья моя имела впечатление, и я этим горжусь, и не как статьей. <Секли ~ статьей. вписано >» [10; Т. 26, 190–191].
В автографе вместо: «Да и не по мне кто» – нужно читать: «Да и не помню кто» (РГБ. Ф. 93. I. 2. 14/9. Л. 1 об.).
И здесь, и в окончательном тексте отвергаются обвинения, выдвинутые публицистом газеты «Северный вестник», в том, что Достоевский, откликнувшийся на дело Корниловой, якобы необоснованно защищал преступницу, не имея сочувствия к ребенку. Писатель счел возможным напомнить, что он, в отличие от своего оппонента, неоднократно выступал в защиту детей, бывших в том или ином случае жертвами родственников: «Когда был процесс Кронеберга, мне случилось-таки, несмотря на все мое пристрастие к “болезненным проявлениям воли”, заступиться за ребенка, за жертву, а не за истязателя. Следственно, и я иногда беру сторону здравого смысла, г-н Наблюдатель. Теперь я даже сожалею, зачем вы не выступили тогда тоже в защиту ребенка, г-н Наблюдатель; наверно бы вы написали самую горячую статью. Но я что-то не помню ни одной горячей тогда статьи за ребенка» [10; Т. 26, 107–108]. Отмеченная черновая заметка текстуально соответствует последним строкам приведенного высказывания: Достоевский замечает, что и не помнит, кто, кроме него самого, высказывался в защиту дочери Кронеберга.
Вторая ошибка связана с неверным отражением порядка записи. Окончание текста нужно читать иначе: «А я сказалъ, и статья моя им ѣ ла впе-чатл ѣ ніе, и я этимъ горжусь и не какъ статьей /а какъ поступкомъ/» (РГБ. Ф. 93. I. 2. 14/9. Л. 1 об.).
Вариант ПСС «Секли поступком» ошибочен. Глагол «секли» был бы написан через « ѣ », которой в тексте Достоевского нет; вместо этого в рукописи обнаруживается сочетание «а какъ». Оно указывает на то, что набросок, записанный у нижнего края страницы, имеет продолжение на полях слева. Соединенные вместе, эти две записи дают новый смысл: Достоевский не только доказывает на конкретных примерах (имея в виду свои статьи о судебных процессах Кронеберга и Джунковских), что заступался за обиженных детей. Он подчеркивает, что его выступления в «Дневнике писателя» были действенны , и следовательно, приобрели значение поступка. В этой короткой черновой заметке выражена одна из важнейших идей писателя – христианская идея деятельной любви, актуальная для творчества
Достоевского в целом; ср.: «…станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (1Ин. 3:18).
По мысли автора, мало выступать с гуманистическими лозунгами в печати, как это делают некоторые журналисты, – нужно выступать так, чтобы жизнь конкретных людей менялась к лучшему; необходимо личное деятельное участие в решении той или иной проблемы. Как известно, Достоевский сам встречался с Корниловой, чтобы разобраться в причинах произошедшего, а его статьи об этом деле способствовали вынесению ей оправдательного приговора. Не случайно в споре с Наблюдателем Достоевский отмечает недостоверность сведений, содержащихся в публикации «Северного вестника», как факт, значимый по своим возможным последствиям: «…Наблюдатель не знает дела, о котором судит, говорит наобум, сочиняет сам из головы небывалые обстоятельства и бросает их прямо на голову бывшей подсудимой; в зале суда, очевидно , не находился, прений не слушал, при приговоре не присутствовал – и при всем том – ожесточенно и озлобленно требует казни человека! Да ведь дело-то об участи человеческой идет, нескольких даже существ зараз, о том идет, чтоб разорвать жизнь человеческую пополам, безжалостно, с кровью. Положим, несчастная уже была оправдана, когда Наблюдатель вышел с своей статьей, – но ведь такие нападения влияют на общество, на суд, на общественное мнение, они отзовутся на будущем подобном же подсудимом, они, наконец, обижают оправданную, благо она из темного люда, а потому беззащитна» [10; Т. 26, 94].
В другом месте черновой рукописи Достоевский упоминает о том, как муж Корниловой привел ее домой после освобождения и прежде всего стал читать ей Евангелие. Вариант ПСС : «В чем-то же светился этот укор? Слышала: тебе, дескать, это надо теперь прежде всего, прежде питья, прежде еды и спанья, потому что ты грешница и в этом нуждаешься. Тут она могла услышать слишко<м> уж постоянный укор» [10; Т. 26, 196]. В автографе: «Въ чтені<и> же евангелія этотъ укоръ слышала: тебе дескать это надо теперь прежде всего, прежде покоя, прежде ѣ ды и спанья, потому что ты гр ѣ шница и въ этомъ нуждаешься. Тутъ она могла услышать слишко<мъ> ужъ посп ѣ шный укоръ» (РГБ. Ф. 93. I. 2. 14/10. Л. 2 об.).
На неточность прочтения начала записи указывает синтаксическая неясность фразы: в рукописи нет вопросительного знака. Необходимо также учесть особенности начертаний и орфографические характеристики (использование букв «і» и «ѣ»). В печатном тексте автор стремится подчеркнуть «поспешность» обращения мужа Корниловой к чтению Евангелия – появляется курсив: «Слишком виновную душу, и особенно если она сама уже слишком чувствует свою виновность и много уже вынесла из-за того муки, не надо слишком явно и поспешно укорять в ее виновности, ибо можно достигнуть обратного впечатления, и особенно в том случае, если раскаяние и без того уже в душе ее» [10; Т. 26, 104].
В творчестве Достоевского мотив виновности нередко связан с темой преступления [13; 23]. В романе «Преступление и Наказание» Достоевский оставляет своим героям надежду на духовное восстановление, в «Дневнике писателя» за 1877 год особое внимание обращает на эпиграф «Анны Карениной», подчеркивая, что в человечестве «нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных, а есть Тот, который говорит: “Мне отмщение и Аз воздам”» [10; Т. 25, 201].
С этой точки зрения интересно еще одно разночтение между рукописным и печатным текстом. В наборной рукописи декабрьского выпуска «Дневника писателя» за 1877 год есть строки, которые в печати воспроизводятся так: «По крайней мере, теперь хоть надеяться можно, что великое милосердие суда не испортило преступницу еще более, а, напротив, даже очень может быть, что пало на хорошую почву» [10; Т. 26, 106]; то же в прижизненном издании произведения. В рукописном тексте слово «суд» записано с заглавной буквы (РГБ. Ф. 93. I. 2. 13. Л. 240), и это не случайность – таким образом подчеркивается высшее значение земного Суда, заключенное в его способности к милосердию, которое дает оступившемуся человеку надежду на новую жизнь: «Теперь же, чувствуя, что она преступница, и считая себя таковою, и вдруг прощенная людьми, облагодетельствованная и помилованная, как могла бы она не почувствовать обновления и возрождения в новую и уже высшую прежней жизнь?» [10; Т. 26, 110].
Надо сказать, что обращение к беловым рукописям «Дневника писателя» за 1877 год обнаруживает и другие подобные примеры разночтений между рукописным текстом и последующими его публикациями. Не во всех случаях исправление рукописи в печати улучшает текст. Довольно часто, напротив, происходит искажение авторской мысли. Это касается и пунктуационных, и орфографических изменений, вносимых корректорами или наборщиками на стадии допечатной подготовки текста [28]. Для Достоевского немаловажным было начертание особо значимых слов с заглавной буквы. По точному выражению В . Н. Захарова, заглавная буква «устанавливает иерархию понятий, являясь своего рода “метафизикой текста”» [16; 355]. В подобных случаях графического акцентирования слова следует соблюдать орфографию первоисточника при публикации текста. В реальности так происходит не всегда. Говоря об эдиционном аспекте текстологической работы, А. Л. Гришунин заметил: «XVIII, в значительной мере и XIX век сильно злоупотреблял прописной буквой. С прописной писались наименования чинов, званий, даже профессий… и это было повсеместной и общей нормой; ничего специфически карамзинского, пушкинского, лермонтовского и т. д. – в этом нет. То была дань традиции, возможно, под влиянием, например, немецкого языка, никак не оправданная целесообразностью и логикой текста» [7; 339], см. также [8; 45]. Вместе с тем исследователь подчеркивает, что «от чисто условного, традиционного и ничем не оправданного написания слов с прописной буквы следует отличать те нарицательные имена, которые начинаются с прописной буквы для подчеркивания их особого значения» [7; 339]. Трудно согласиться с утверждением о злоупотреблении прописной буквой в XVIII и XIX веках: если прописная форма и была «данью традиции», то определенная логика ее использования, безусловно, существовала (см. [22; 47–48]). Так, еще в грамматическом руководстве Н. И. Греча отмечена зависимость формы написания от стиля и содержания высказывания: не нуждается в пояснении прописная буква в «наименова- ниях истинного Бога» или в «наименованиях олицетворенных предметов, умственных и отвлеченных» (Природа, Искусство, Восток, Запад и т. д.), не говоря уже об именах собственных [6; 544–550]. По мнению В. Э. Вацуро, «выделить из традиционных написаний, где прописная буква ставится автоматически, аллегорические обозначения и понятия, где она семантически нагружена, иногда бывает чрезвычайно затруднительно, но делать это необходимо, хотя бы с известной степенью вероятности, – в противном случае мы рискуем привнести в текст те же, уже обозначенные нами, дополнительные и чуждые ему значения» [2; 261–262] (о поэтике заглавной буквы см. также [5; 185], [26; 27]).
Рассмотрим примеры, показывающие значение орфографических характеристик авторских записей. В следующей ниже таблице приводятся разночтения между рукописью, с которой набирался текст «Дневника писателя» за 1877 год, первопечатным текстом произведения (единственным прижизненным изданием 1878 года) и текстом академической публикации.
|
№ |
ПСС |
1878 |
Наборная рукопись |
|
Апрель |
|||
|
1 |
С войной и победой придет новое слово , и начнется живая жизнь, а не одна только мертвящая болтовня как прежде [10; Т. 25, 96] |
Съ войной и поб ѣ дой придетъ новое слово , и начнется живая жизнь, а не одна только мертвящая болтовня какъ прежде [9; 88] |
Съ войной и поб ѣ дой [–] /придетъ/ Новое слово, [новыя начала] и /начнется/ живая жизнь, а не [мертвящій сонъ] /одна только мертвящая болтовня какъ прежде/ (РГБ. Ф. 93. I. 2. 12. Л. 7) |
Май – июнь
|
2 |
под выражением «невеста Христова» всегда разумелась вообще церковь [10; Т. 25, 125] |
подъ выраженіемъ «нев ѣ ста Христова» всегда разум ѣ лась вообще церковь [9; 116] |
подъ выраженіемъ «нев ѣ ста Христова» всегда разум ѣ лась вообще Церковь (ИРЛИ. Ф. 100. № 29479. Л. 7; в черновом автографе заглавная буква – РГБ. Ф. 93. I. 2. 12. Л. 109) |
|
3 |
о течественного языка [10; Т. 25, 140] |
о течественнаго языка [9; 131] |
О течественнаго языка (ИРЛИ. Ф. 100. № 29480. Л. 27; в черновом автографе заглавная буква – РГБ. Ф. 93. I. 2. 12. Л. 146) |
|
4 |
что я говорил о знаніи русского языка, надо приложить и к французскому [10; Т. 25, 140] |
что я говорилъ о знаніи Русскаго языка, надо приложить и къ французскому [9; 131] |
что я говорилъ о знаніи Русскаго языка, надо приложить и къ французскому (ИРЛИ. Ф. 100. № 29480. Л. 27 об.; в черновом автографе так же – РГБ. Ф. 93. I. 2. 12. Л. 148) |
|
5 |
Россию и всё о течественное [10; Т. 25, 142] |
Россію и все о течественное [9; 133] |
Россію и все О течественное (ИРЛИ. Ф. 100. № 29480. Л. 30; в черновом автографе строчное написание – РГБ. Ф. 93. I. 2. 12. Л. 151) |
|
6 |
Они провозгласили свое уже новое слово [10; Т. 25, 152] |
Они провозгласили свое уже новое слово [9; 143] |
Они провозгласили /свое уже/ новое Слово (ИРЛИ. Ф. 100. № 29481. Л. 3) |
|
7 |
хоть и не представил <…> своего слова , своего строго формулированного идеала взамен древнеримской идеи, но, кажется, всегда был убежден, внутри себя, что в состоянии представить это новое слово [10; Т. 25, 153] |
хоть и не представилъ <…> своего Слова , своего строго формулиро-ваннаго идеала взаменъ древнеримской идеи, но кажется всегда былъ уб ѣ жденъ, внутри себя, что въ состояніи представить это новое Слово [9; 143] |
хоть и не представилъ <…> Своего слова , своего строго формулированнаго идеала взам ѣ нъ древне-римской идеи, но кажется всегда былъ уб ѣ жденъ, внутри себя, что въ состояніи представить это новое Слово (ИРЛИ. Ф. 100. № 29481. Л. 3–3 об.) |
|
8 |
И вот германский дух, сказав это новое слово протеста [10; Т. 25, 153] |
И вотъ Германскій духъ, сказавъ это Новое Слово протеста [9; 143] |
И вотъ Германскій духъ, сказавъ это Новое Слово протеста (ИРЛИ. Ф. 100. № 29481. Л. 3 об.) |
Выражение «новое слово» довольно частотно у Достоевского, иногда автор подчеркивает это словосочетание. В данном случае (первый пример) оно записано с большой буквы именно с целью акцентировать идею обновления мира и объединения людей в войне за единоверцев. Интересен повтор сочетания «новое слово» в другом орфографическом оформлении (пример шесть): «новое» – с маленькой буквы, «слово» – с заглавной. Семантика сочетания существенно иная: автор говорит об идее коммуны, под «новым Словом» подразумевается «необходимость все-единения людей… на основаниях всеобщего уже равенства, при участии всех и каждого в пользовании благами мира сего, какие бы они там ни оказались» [10; Т. 25, 152]. По мысли писателя, «осуществить… это решение положили всякими средствами, то есть отнюдь уже не средствами христианской цивилизации, и не останавливаясь ни перед чем» [10; Т. 25, 152–153]. Выражения «блага мира сего» и «христианская цивилизация» составляют смысловое единство и отсылают нас к евангельскому мотиву дьяволова искушения Христа царствами земными (Мф. 4:8–10), актуальному для «Дневника писателя» и романов Достоевского. Так, в поэме Ивана Карамазова «Великий инквизитор» данный мотив ассоциируется, как и в «Дневнике писателя», с темой католичества – о царствах земных как идее, принятой римской церковью, говорит инквизитор, обращаясь к Христу [10; Т. 14, 234]. В «Дневнике писателя» эта библейская аллюзия проясняет суть авторской оценки коммунистической идеи объединения людей вне Христа: идею достижения цели «всякими средствами» не назовешь «Новым словом» – она стара как мир («древнеримская идея» – [10; Т. 25, 153]), поэтому и определение «новое» записано с маленькой буквы. Прописная форма существительного «Слово» тоже не случайна – это написание отражает восприятие идеи самими ее носителями: «Они провозгласили свое уже новое Слово». Далее (в 7-м и 8-м примерах) речь идет о протестантизме, точнее, о лютеранстве. По мысли автора, лютеранство есть «новая формула протеста» против «древнеримской идеи» (католицизма). Здесь видим варианты орфографического оформления текста: Свое слово, новое Слово, Новое Слово. В каждом случае через орфографию выделяется тот или иной смысловой оттенок высказывания: противопоставленность своего и заданного традицией (Свое слово), неоправданная претензия на новизну идеи (новое Слово), выделение протестантской Германии на общеевропейском фоне (Новое Слово). Во всех этих случаях орфография становится способом выражения авторских оценок.
Семантика понятия «Церковь» (пример два) также передается через заглавную букву. Согласно Н. И. Гречу, «если слово имеет два значения, то важнейшее из оных, ближе подходящее к наименованию собственному или к имени предмета умственного, олицетворенного, начинается прописною буквою; например церковь , здание ( церковь Знамения ), Церковь , собрание верующих ( Церковь Христианская )…» [6; 549–550].
Думается, что написания, характеризующие авторские оценки и наделенные особым идейнохудожественным смыслом, важно сохранять при воспроизведении текста в печати. Представленные примеры, кроме того, показывают, что евангельский текст становится той системой ценностей, в контексте которой на разных стадиях творческой работы оформляются и соединяются в художественное целое историософские и литературные идеи «Дневника писателя» и рождается авторский идеал деятельной любви, милосердия и веры.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 02-04-00101а.
Список литературы Евангельский текст в «Дневнике писателя» за 1876-1877 годы Ф.М. Достоевского
- Артемьева С. В. Случаи цитирования Ф. М. Достоевским Откровения Иоанна Богослова//Достоевский: Дополнения к комментарию/Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН, Комиссия по изучению творчества Ф. М. Достоевского. М.: Наука, 2005. С. 327-344.
- Вацуро В. Еще раз об академическом издании Пушкина. (Разбор критических замечаний проф. Вернера Лефельд-та)//Новое литературное обозрение. 1999. № 37. С. 253-266.
- Великанова Н. П. «Война и мир»: поэтика и текстология//Современная текстология: теория и практика/ИМЛИ им. А. М. Горького РАН. М.: Наследие, 1997. С. 134-161.
- Волгин И. Л. «Дневник писателя»: текст и контекст//Достоевский: Материалы и исследования/ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР. Л.: Наука, 1978. Т. 3. С. 151-158.
- Галаган Г. Я. Мечта парадоксалиста (1876 год)//Достоевский: Материалы и исследования/ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. СПб.: Наука, 1997. Т. 14. С. 180-186.
- Греч Н. И. Практическая русская грамматика. СПб.: Тип. Имп. Санктпетерб. Воспит. Дома, 1827. С. 544-550.
- Гришунин А. Л. Исследовательские аспекты текстологии. М.: Наследие, 1998.
- Дмитриева Е. Издание Гоголя: проблема этическая, эстетическая, текстологическая?//Проблемы текстологии и эди-ционной практики. Опыт французских и российских исследователей/ИМЛИ им. А. М. Горького РАН; Под ред. М. Де-лона и Е. Дмитриевой. М.: ОГИ, 2003. С. 33-50.
- Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1877 г. СПб.: Тип. В. Пуцыковича, 1878.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972-1990.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: Канонические тексты/Под ред. проф. В. Н. Захарова. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995-2010. Т. I-IX. (Изд. продолжается).
- Дудкин В. В. Достоевский и Евангелие от Иоанна//Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков. Цита-та, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 2. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. С. 337-348.
- Дудкин В. Философия преступления у Достоевского//XXI век глазами Достоевского: перспективы человечества. М.: ИД «Грааль», 2002. С. 128-152.
- Есаулов И. А. Пасхальность в поэтике Достоевского//Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. М.: Кругъ, 2004. С. 258-287.
- Захаров В. Н. Канонический текст Достоевского//Новые аспекты в изучении Достоевского. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. С. 355-359.
- Захаров В. Н. Символика христианского календаря в произведениях Достоевского//Новые аспекты в изучении Достоевского. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. С. 37-49.
- Кириллова И. Отметки Достоевского на тексте Евангелия от Иоанна//Достоевский в конце XX века/Сост. и ред. К. Степанян. М.: Классика плюс, 1996. С. 48-59.
- Коган Г. Вечное и текущее (Евангелие Достоевского и его значение в жизни и творчестве писателя)//Достоевский в конце XX века/сост. и ред. К. Степанян. М.: Классика плюс, 1996. С. 147-166.
- Корниенко Н. В. Основной текст Платонова 30-х годов и авторское сомнение в тексте//Современная текстология: теория и практика/ИМЛИ им. А. М. Горького РАН. М.: Наследие, 1997. С. 176-192.
- Матевосян Е. Проблема реконструкции источников текста (на примере романа М. Горького «Жизнь Клима Самги-на»)//Проблемы текстологии и эдиционной практики. Опыт французских и российских исследователей/ИМЛИ им. А. М. Горького РАН; под ред. М. Делона и Е. Дмитриевой. М.: ОГИ, 2003. С. 266-272.
- Перцов Н. В. О соотношении письменной и устной форм поэтического языка. (К вопросу о функциональной нагруженности старого русского правописания)//Вопросы языкознания. 2008. № 2. С. 30-56.
- Поддубная Р. Н. О проблеме наказания в романе «Преступление и наказание»//Достоевский: Материалы и исследования. Л.: Наука, 1976. Т. 2. С. 96-105.
- Проблемы текстологии Достоевского. Вып. 1: Проблемы текстологии романов «Преступление и Наказание», «Идиот», «Бесы»: Монография/В. Н. Захаров, М. В. Заваркина, Т. А. Радченко, А. И. Солопова, Н. А. Тарасова. Петрозаводск, 2009.
- Сальвестрони С. Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского. СПб.: Академ. проект, 2001.
- Сгар Ж. Как издавать Кребийона//Проблемы текстологии и эдиционной практики. Опыт французских и российских исследователей/ИМЛИ им. А. М. Горького РАН; под ред. М. Делона и Е. Дмитриевой. М.: ОГИ, 2003. С. 19-32.
- Тарасов Ф. Б. Роль Евангелия в художественном творчестве Ф. М. Достоевского//Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. Вып. 4. С. 302-311.
- Томашевский Б. В. Писатель и книга: Очерк текстологии. М.: Искусство, 1959.
- Kjetsaa G. Dostoevsky and His New Testament. Oslo: Solum Forlag A. S., 1984.