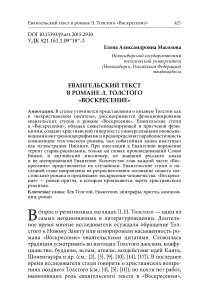Евангельский текст в романе Л. Толстого «Воскресение»
Автор: Масолова Елена Александровна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.13, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье уточняется распространенное представление о позднем Л. Н. Толстом как о «нехристианском писателе», рассматривается функционирование евангельских стихов в романе «Воскресение». Евангельские стихи в «Воскресении», обладая сюжетомоделирующей и притчевой функциями, создают христианский гипертекст с универсальными опоясывающими и внутренними рифмами и предопределяют параболистичность композиции толстовского романа, чья событийная канва выступает как иллюстрация Писания. При апелляции к Евангелию поражение терпят старик-раскольник, только на словах проповедовавший Слово Божие, и английский миссионер, не знавший русского языка и не цитировавший Евангелие. Количество глав каждой части «Воскресения» представляется не случайным. Евангельские стихи в последней главе направлены на ретроспективное осознание сюжета толстовского романа и предвещают воскресение человечества. «Воскресение» - роман-притча, в котором проявляются черты христианского реализма.
Лев толстой, евангелие, эпиграфы, притча, композиция, роман
Короткий адрес: https://sciup.org/14748941
IDR: 14748941 | DOI: 10.15393/j9.art.2015.2930
Текст научной статьи Евангельский текст в романе Л. Толстого «Воскресение»
Вопрос о религиозных взглядах Л. Н. Толстого — один из самых неоднозначных в литературоведении. Длительное время многие исследователи осуждали обращение Толстого к Новому Завету или игнорировали насыщенность романа «Воскресение» евангельскими цитатами. Сложилась традиция усматривать во взглядах Толстого даосизм, конфуцианство, буддизм, ислам, атеизм, воздействие идей Канта, Шопенгауэра и др. (см.: [2], [3], [9], [10], [14], [17]). В последнее время исследователи стали говорить о христианских воззрениях позднего Толстого (см.: [4], [5], [11]); но почти нет работ, выявляющих роль евангельского текста в «Воскресении», хотя, как замечает В. Г. Одиноков, «Толстой прекрасно чувствовал эстетический потенциал, заключенный в Евангелии, и реализовал этот потенциал в своих художественных произведениях» [13, 206].
В «Воскресении» автор-повествователь использует различные дискурсивные стратегии, что проявляется во взаимодействии художественного, публицистического, мифопоэтического, христианского и других дискурсов (см.: [7]). Важную роль в христианском дискурсе играет евангельский текст: четыре эпиграфа из Евангелия и две евангельских притчи в последней главе романа. Два эпиграфа к «Воскресению» взяты из Евангелия от Матфея (Мф. 18:21; Мф. 7:3); третий — из Евангелия от Иоанна (Ин. 8:7); четвертый — из Евангелия от Луки (Лк. 6:40). В первых трех эпиграфах говорится о необходимости прощать оступившегося, не хулить других за мелкие прегрешения и ненавидеть собственные грехи. Четвертый эпиграф раскрывает человеку высшую цель — стать достойным учеником Бога. Д. М. Шевцова отмечает, что эпиграфы к «Воскресению» связаны с социальной, нравственной и философской проблематикой романа [16, 11–14]. От эпиграфов тянутся незримые нити ко всему роману Толстого, а потому каждый эпизод в «Воскресении» оценивается в двойной перспективе — эмпирического и христианского. У эпиграфов к «Воскресению» функция Nachgeschichte: они выступают как план-конспект, средоточие религиозно-философской притчевой проблематики вторичного, детерминированного Евангелием сюжета романа. В эпиграфах заключена «генная информация» во многом иллюстративного развития действия. Полиатрибу-тивные эпиграфы задают единую шкалу оценки поведения и алгоритм должного отношения к жизни: всем людям дан шанс духовного просветления и воскресения. В романе воскресает лишь Нехлюдов; отказ Дмитрия от своего былого грешного «я» и намерение неукоснительно руководствоваться евангельскими заповедями, уверен Толстой, станет первым шагом к грядущему воскресению человечества.
После суда над Масловой Нехлюдов, поняв степень своей вины перед соблазненной и брошенной им Катюшей, перестал ее ненавидеть и стал укорять себя. Автор-повествователь соотносит мысли Нехлюдова со вторым эпиграфом к роману «Воскресение»:
С отвращением <…> я говорил с ней и потом вдруг вспомнил <…>, как я <…> виноват в том, за что ненавидел ее, и вдруг <…> я стал противен себе, а она жалка, и мне стало очень хорошо. Только бы <…> успеть увидать бревно в своем глазу, как бы мы были добрее (32, 326)1.
Стихи Евангелия периодически звучат в душе Нехлюдова, что помогает ему принимать верные решения и приближаться к осознанию Слова Божия.
Когда же Евангелие цитирует старик-раскольник 2 , его речь не может наставить людей на истинный путь. Он, строго хмурясь, скороговоркой почти дословно цитирует восемнадцатый стих главы первой Евангелия от Иоанна:
Бога же никто же не видел нигде же. Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил (32, 418)3.
Старик-раскольник заявляет, что надо не молиться Богу, а верить себе, и сравнивает свои мытарства с гонениями Христа. Заявляя о своем пренебрежительном отношении к религиозным ритуалам и возвеличивая себя, раскольник вызывает у мужиков недоумение; ямщик называет его нехристем, бродяжкой непутевым. Такая негативная оценка старика — свидетельство неприятия народом сектантских взглядов. Встретив раскольника в тюрьме, Дмитрий обескуражен тем, что тот огульно осуждает всех за отказ бороться с антихристом и не пытается приобщить людей к своей вере:
Ступай, ступай, — прибавил он, сердито хмурясь <…>. —
Нагляделся, как антихристовы слуги людьми вшей кормят. Ступай, ступай! (32, 438).
Раскольник только на словах проповедует учение Бога: у старика нет доброты к людям и желания их прощать. Сложно согласиться с А. Б. Тарасовым, полагающим, что раскольник — проводник идей Толстого [15, 28]: в дальнейшем Дмитрий не вспоминает о старике, что было бы невозможно, если бы Нехлюдов поверил ему и воспринял его как наставника. Раскольник — лжеучитель, забыв о котором, Нехлюдов стал еще напряженнее размышлять о жизни.
Дмитрий не поверил и английскому миссионеру, который в тюремных камерах раздавал заключенным по два экземпляра Евангелия (хотя в первой камере более двадцати человек хотели получить Писание), говорил арестантам несколько реплик по-английски, не цитируя Евангелие, и шел, «только приговаривая “all right” на донесения смотрителя о том, какие были арестанты в каждой камере» (32, 436–437). Подравшиеся заключенные с глумлением встретили слова англичанина о смирении и всепрощении, и он замолчал, а Нехлюдов почувствовал усталость и безнадежность. Представляется неверным утверждение Е. Г. Новиковой, полагающей, что 1) заключенные не восприняли миссионера потому, что современный человек не понимает слово Христа, 2) евангельский текст вошел в роман, чтобы быть осмеянным и отмененным [12, 172–175]. Безрезультативность попытки англичанина наставить заключенных на путь истинный была неизбежна, так как 1) наличие языкового барьера — весомая причина для взаимонепонимания; 2) толстовские простонародные герои изначально укоренены в православной вере, а потому не принимают ни экономических нововведений, ни иного вероисповедания, кроме православного; 3) попытка миссионера подменить текст Евангелия проповедью обречена на поражение.
Глашатай-раскольник и миссионер оказались осмеянными, их попытки наставить людей на путь истинный выглядели несостоятельными, а потому потребовалось обращение героя непосредственно к Евангелию; в последней главе романа уставший ходить и думать Нехлюдов читает Слово Божие:
Говорят, там разрешение всего, — подумал он и, открыв Евангелие, начал читать там, где открылось. Матфея гл. XVIII (32, 440).
На Дмитрия снисходит озарение; чтение Евангелия становится для Нехлюдова и откровением, и припоминанием тех мыслей, которые он передумал за время своего духовного взросления.
Сначала Нехлюдов прочитал главу восемнадцатую Евангелия от Матфея, состоящую из тридцати пяти стихов; тридцать три стиха главы восемнадцатой полностью воспроизведены в романе. Прочитав четвертый стих главы восемнадцатой Евангелия от Матфея: «Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном», Дмитрий полностью согласился с этим, вспомнив, как «он испытал успокоение и радость жизни только в той мере, в которой умалял себя» (32, 440). Стихи с седьмого по десятый, «о соблазнах, о том, что они должны прийти в мир, о наказании посредством геенны огненной, в которую ввергнуты будут люди, и о каких-то Ангелах детей, которые видят лицо Отца Небесного» (32, 440), показались Нехлюдову неясными, хотя он почувствовал в этих стихах что-то хорошее. Евангельские стихи обладают особой глубиной, до восприятия которой предстоит возвыситься Дмитрию. В дальнейшем исчезает какое-либо непонимание героем Евангелия. После прочтения четырнадцатого стиха главы восемнадцатой Евангелия от Матфея Нехлюдов комментирует Слово Божие, соотнося сказанное в Писании и реальную жизнь:
14. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. «Да, не было воли Отца, чтобы они погибли, а вот они гибнут сотнями, тысячами. И нет средств спасти их», — подумал он (32, 441).
Завершает главу восемнадцатую Евангелия от Матфея притча о том, как Государь простил злого раба (Мф. 18:21– 35). Толстой дословно цитирует эту притчу, сохраняя разбивку по стихам. Эта евангельская притча включает двадцать первый — двадцать третий стихи, входящие в первый эпиграф романа. Повторение евангельских стихов в романе «Воскресение» подчеркивает необходимость исполнять волю Бога. Обращенные к рабу слова Государя о помиловании из тридцать третьего стиха восемнадцатой главы Евангелия от Матфея — «33. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» (32, 441) внушают Нехлюдову убеждение, что все должны признать себя виновными перед Богом и перестать наказывать других:
Да неужели только это? — вдруг вслух вскрикнул Нехлюдов, прочтя эти слова. И внутренний голос всего существа его говорил: «Да, только это» (32, 441).
Размышления Нехлюдова после прочтения главы восемнадцатой Евангелия от Матфея даны как авторский пересказ, дважды уступающий место прямой речи героя, во втором фрагменте внутреннего монолога Дмитрия возрастают четкость и убедительность его суждений:
Да не может быть, чтобы это было так просто, — говорил себе Нехлюдов, а между тем несомненно видел, что <…> это было несомненное и <…> самое практическое разрешение вопроса. <…> Вы несколько столетий казните людей, которых признаете преступниками. Что же, перевелись они? Не перевелись, а количество их только увеличилось (32, 442).
Нехлюдов внутренне растет при осмыслении Евангелия; мысли героя обретают форму гневного памфлета и все больше совпадают с авторскими сентенциями, с проповедническим пафосом Толстого-публициста, обличителя современного ему строя. С началом внутреннего преображения у Дмитрия все чаще происходит прорыв из эмпирического плана в мир евангельских истин и осознание их применительно к себе и всем людям. Размышляя о неблагополучии социума, Дмитрий апеллирует к наказу Христа, данному Апостолу Петру:
Теперь ему стало ясно, отчего весь тот ужас, который он видел, и что надо делать <…>, чтобы уничтожить его. Ответ <…> был тот самый, который дал Христос Петру: <…> бесконечное число раз прощать, <…> нет таких людей, которые бы сами не были виновны и потому могли бы наказывать или исправлять (32, 442).
Особенно поразила Дмитрия идея восемнадцатой главы Евангелия от Матфея о великой силе любви. В публицистических статьях Толстой неоднократно писал, что Бог есть любовь; к этому убеждению он привел и своего героя.
Нехлюдов убеждается в неоспоримости прочитанных евангельских стихов, возвращается к началу Евангелия от Матфея и перечитывает его вплоть до главы пятой, содержащей Нагорную проповедь, где в четырех стихах Иисус оспаривает сложившиеся представления, опровергает мнения древних пророков4 и излагает в двадцати четырех стихах Свое учение. Перечитав Нагорную проповедь, Нехлюдов впервые увидел в ней «<…> ясные и практически исполнимые заповеди, которые <…> устанавливали <…> новое устройство человеческого общества, при котором <…> достигалось высшее <…> благо — Царство Божие на земле» (32, 443). При переосмыслении Евангелия от Матфея Дмитрий подумал о своих и людских прегрешениях перед Богом, увидел неприглядность общества и представил себе, что было бы, «если бы люди воспитывались на этих правилах, и <…> восторг охватил его душу. Точно он после долгого томления и страдания нашел вдруг успокоение и свободу» (32, 444).
Прочитанные тридцать пять стихов главы восемнадцатой Евангелия от Матфея подвигли Нехлюдова к дальнейшему поиску ответов на вопросы бытия; двадцать четыре стиха Нагорной проповеди привели Дмитрия к переоценке прежней жизни и желанию исполнять заповеди Бога. Количество глав в части первой «Воскресения» не случайно, а предопределено суммированием чисел 35 и 24 5 . В начале «Воскресения» люди живут, попирая заповеди Бога; пятьдесят девять глав части первой романа Толстого — жизнь людей, презревших слово Божие (в ранних редакциях «Воскресения» максимум сорок девять глав). Согрешив против Бога, Нехлюдов начинает ненавидеть себя и преображается.
В главе пятой Евангелия от Матфея сорок восемь стихов; в первых двух стихах нет заповедей Христа, а есть слова евангелиста, повествующего о том, что Иисус поднимается на гору и начинает учить людей 6 . Следовательно, в главе пятой Евангелия от Матфея шесть стихов из сорока восьми не являются непосредственным изложением учения Бога; само же Слово Божие занимает сорок два стиха. В части второй романа «Воскресение» сорок две главы (в ранних редакциях романа Толстого — от сорока четырех до сорока семи глав).
В части третьей «Воскресения» двадцать восемь глав — столько же, сколько и в Евангелии от Матфея (в шестой редакции романа Толстого двадцать семь глав).
Переосмыслив евангельские заповеди, Дмитрий осознал, что человек обязан неукоснительно исполнять их. Эта истина, к которой герой неоднократно приближался в романе, максимально емко выражена в «Воскресении» в евангельской притче «О злых виноградарях» (Мф. 21:33–41), приведенной в пересказе автора-повествователя, который опускает ряд подробностей евангельского текста, воспроизводя лишь суть конфликта, когда работники усомнились в словах Хозяина и начали убивать тех, кто говорил о Хозяине. В стилистическом плане пересказанная в романе Толстого притча близка к проповеди:
Виноградари вообразили себе, что сад, в который они были посланы для работы на Хозяина, был их собственностью; что все, что было в саду, сделано для них и что их дело только в том, чтобы наслаждаться в этом саду своею жизнью, забыв о Хозяине и убивая тех, которые напоминали им о Хозяине и об их обязанностях к Нему (32, 444).
Трижды употребленная лексема сад придает винограднику статус пространства, подвластного Богу. В конце романа Дмитрий приблизился к христианскому восприятию Сада. Мысли Нехлюдова о собственных ошибках перекликаются с грехом виноградарей, проигнорировавших волю Хозяина.
После пересказа притчи дан самый продолжительный внутренний монолог Нехлюдова, который ужаснулся тому, как далеко человечество отошло от заповедей Бога. Автор-повествователь полностью разделяет позицию Дмитрия (что проявляется в отсутствии каких-либо комментариев к его речи):
Ведь если мы посланы сюда, то по чьей-нибудь воле и для чего-нибудь. А мы решили, что живем только для своей радости, <…> нам дурно, как будет дурно работнику, не исполняющему воли Хозяина. Воля же Хозяина выражена в этих заповедях. Только исполняй люди эти заповеди, и на земле установится Царствие Божие (32, 444).
Нехлюдов, интерпретируя Слово Божие, проводит параллели между событиями в Евангелии и современностью; притча о злых виноградарях, выступая как метафора неправедной жизни человечества, дает Дмитрию возможность осудить свои ошибки и еще четче увидеть современные социальные аномалии. Мысли Нехлюдова обретают проповеднический пафос, приближаются к трактатам Толстого; христианский дискурс «Воскресения» смыкается с публицистическим.
Автор-повествователь подчеркивает неразрывную связь евангельского текста и размышлений Дмитрия. Нехлюдов почти дословно цитирует тридцать третий стих главы шестой Евангелия от Матфея: «Ищите Царства Божия и правды Его, а остальное приложится вам» (32, 444) 7 . В романе этот стих оформлен курсивом и вынесен в отдельный абзац, состоящий из двух предложений, первое из которых — заповедь Бога, второе — мысли героя о неоспоримости Евангелия: «А мы ищем остального и, очевидно, не находим его» (32, 444).
Стихи Евангелия и их переосмысление героем «рифмуются» с четырьмя эпиграфами романа «Воскресение», что создает кольцевую рифму. Автор-повествователь оценивает все с позиций Евангелия и ведет к такому миропониманию своего героя. Последняя глава романа Толстого — и эпилог, и начало новой жизни Дмитрия во Христе: Нехлюдов читает Евангелие, преображается в процессе постижения Слова Божия и обещает неукоснительно исполнять Его заповеди. Рассказ о заблуждениях Нехлюдова превращается в историю отпадения от Бога и последующего обретения Его, а жизнь Дмитрия воспринимается в контексте притчи о блудном сыне, который «был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15:32), раскаялся и пришел в Дом Отца своего. Путь Нехлюдова к Богу был тернистым и сложным: поддавшись разврату и безверию, культивируемым в обществе, Дмитрий на десять лет отказался от заповедей Бога, но голос совести проснулся в герое, и он поборол попустительство к своим грехам и начал руководствоваться евангельскими заповедями.
Трудно согласиться с В. Г. Андреевой, считающей, что чтение героем Нагорной проповеди не дает оснований говорить о пристрастии Толстого к Евангелию [1, 102]. Апелляция Толстого преимущественно к Евангелию от Матфея играет огромную роль в «Воскресении»: 1) Евангелие от Матфея «открывает» Новый Завет; читая Евангелие от Матфея, Нехлюдов по сути впервые приобщается к Слову Божию, постигать которое он будет за пределами романа; 2) в Евангелии от Матфея Иисус в Нагорной проповеди и в главе восем- надцатой излагает основные положения Своего учения; усвоив эти идеи, человек станет одним из учеников своего Учителя и, «усовершенствовавшись, <…> будет как Учитель его» (32, 3), что предвещает четвертый эпиграф. В «Воскресении» евангельские стихи создают 1) каркас, где действуют универсальные «опоясывающие» и «внутренние» рифмы, сопрягающие человека и действительность со Словом Божиим, 2) сложнейшую систему отсылок, христианский гипертекст, позволяющий с высоты евангельских истин воспринять событийную канву романа как иллюстрацию к Слову Божию, 3) притчевый нарратив романа Толстого. Евангельский текст в «Воскресении» станет диктовать алгоритм жизни Нехлюдову и — в дальнейшем — всему человечеству.
Таким образом, в «Воскресении» матрица евангельского текста накладывается на запечатленную в романе ситуацию отпадения от Бога и обретения Его. События в жизни героев романа иллюстрируют правоту евангельских истин, которые подчиняют своей логике человеческие судьбы, предопределяют перипетии событий и конечную цель развития всего человечества. Возникает художественно-смысловая синонимия евангельских заповедей и сюжета романа «Воскресение». Евангельские стихи играют сюжетомоделирующую роль и выполняют притчевую функцию. Чтение Евангелия позволяет Дмитрию переосмыслить все события с позиций верующего человека, который черпает в Писании ответы на вопросы бытия. Стихи Евангелия в последней главе романа «Воскресение» направлены на ретроспективное осознание его сюжета. Количество глав романа «Воскресение» не случайно, а имплицитно указывает на притчевый код. «Воскресение» — роман-притча, в котором проявляются черты христианского реализма.
на все пять его писем. Назвав Максимова малоинтересной личностью, Толстой передал ему в тюрьму деньги (см.: (69, 216–217)).
Elena Aleksandrovna Masolova
Дата поступления в редакцию: 20.06.2015
Список литературы Евангельский текст в романе Л. Толстого «Воскресение»
- Андреева В. Г. Мотив работы в романе «Воскресение»//Толстовский сборник-2012: материалы XXXIII Международных Толстовских чтений. -Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2012. -С. 98-103.
- Габидулин Р. С., Туктибаев Н. К. Нравственно-религиозная философия Льва Толстого и гуманистическая мысль Центральной Азии. -М.; Архангельск: МИУ, 2002. -88 с.
- Грамолин А. Б. На пути преодоления человека. Л. Толстой и Ф. Ницше: Новое звучание//Русская философия между Западом и Востоком: материалы V Всероссийской научной зональной конференции. -Екатеринбург, 2001. -С. 63-67.
- Густафсон Р. Ф. Обитатель и чужак: Теология и художественное творчество Л. Толстого. -СПб.: Академический проект, 2003. -476 с.
- Кондратьев А. С. Основы христианской поэтики романа Л. Н. Толстого «Воскресение»//О литературе, писателях и читателях. -Тверь, 2005. -Вып. 2. -С. 238-244.
- Масолова Е. А. Раннее творчество Л. Н. Толстого (1850-е -начало 1860-х годов: становление эпического. -Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006. -156 c.
- Масолова Е. А. Роман Л. Н. Толстого «Воскресение»: социальный, христианский и мифопоэтический дискурс. -Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. -220 с.
- Масолова Е. А. Циклизация в романе Толстого «Анна Каренина»//Филологический журнал. -М., 2007. -№ 2 (5). -С. 124-133.
- Мень А. «Богословие» Льва Толстого и христианство//Толстой Л. Н. Четвероевангелия. -М., 2001. -С. 747-762.
- Моисеева Н. А. О новой религии Л. Н. Толстого//Научные доклады Московского толстовского общества. -М., 1996. -Вып. 5. -С. 47-53.
- Набиев Н. Г. Человек в мире Л. Н. Толстого. -М.: Диалог МГУ, 1999. -278 с.
- Новикова Е. Г. Софийность русской прозы второй половины XIX в. -Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 1999. -254 с.
- Одиноков В. Г. Русские писатели XIX века и духовная культура. -Новосибирск: Изд-во НГУ, 2003. -262 с.
- Ореханов Г. Русская православная церковь и Л. Н. Толстой: конфликт глазами современников. -М., 2010. -696 с.
- Тарасов А. Б. Праведники и подвижники и тема воскресения в романе Л. Н. Толстого «Воскресение»//Филологические науки. -М., 2001. -№ 5. -С. 21-29.
- Шевцова Д. М. Функционирование библейских эпиграфов в художественной структуре романов Л. Н. Толстого («Анна Каренина», «Воскресение») и Ф. М. Достоевского («Братья Карамазовы»): автореф. дис. … канд. филол. наук. -Нижний Новгород, 1997. -19 с.
- Эгути Мицуру. Жизнеучение Л. Н. Толстого через призму буддийской философии//Л. Н. Толстой в движении эпох: философские и религиозно-нравственные аспекты наследия мыслителя и художника: материалы Международного форума, посвященного 100-летию со дня смерти Л. Н. Толстого. В 2 ч. Ч. I. -Тула; М., 2010. -С. 58-64.