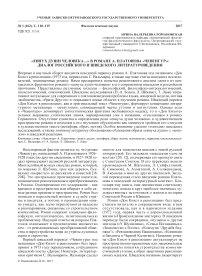"Евнух души человека..." в романе А. Платонова "Чевенгур": диалог российского и шведского литературоведения
Автор: Романовская Ирина Валерьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (162), 2017 года.
Бесплатный доступ
Впервые в научный оборот вводится шведский перевод романа А. Платонова под названием «Дон Кихот в революции» (1973 год, переводчик С. Вальмарк), а также научные статьи шведских исследователей, посвященные роману. Нами предпринята попытка рецептивного анализа одного из центральных фрагментов романа о «евнухе души человека» в его современном шведском и российском прочтении. Представлены различные подходы - философский, философско-антропологический, психологический, сомнический. Шведские исследования (П.-А. Бодин, Л. Шёквист, Т. Лане) затрагивают актуальные для современного платонововедения проблемы языка, жанровой модели, мотива двойничества, образа Другого и открывают новые области в изучении романа. Шведский перевод «Дон Кихот в революции», как и оригинальный текст «Чевенгура», формирует концепцию литературного метажанра - метаутопии, совмещающей черты утопии и антиутопии. Однако если в «Чевенгуре» доминирует антиутопическая фантазия несбывшихся надежд, то в «Дон Кихоте» сильнее выражена утопическая линия, маркированная уже в названии, отсылающем к роману Сервантеса. Отсутствие единства в определении роли «евнуха души человека» в художественном пространстве романа и подходов к его изучению обусловлено как минимум тройным его статусом в художественном тексте (метафора, образ, мотив). Особое внимание уделено «топосам» шведских исследований, а также лингвокультурному обоснованию сближения образа «евнуха души» c «ангелом» в шведской рецепции.
"чевенгур" а. платонова, "евнух души", метафора, образ, мотив, психоанализ, нарратив, шведская рецепция, с. вальмарк, п.-а. бодин, л. шёквист, т. лане
Короткий адрес: https://sciup.org/14751137
IDR: 14751137 | УДК: 821.113.6
Текст научной статьи "Евнух души человека..." в романе А. Платонова "Чевенгур": диалог российского и шведского литературоведения
Неоспоримым фактом является то, что роман «Чевенгур», написанный А. Платоновым в 1926– 1928 годах (по другим сведениям, в 1927–1928 годах) принадлежит великой русской литературе. Многослойный во всех смыслах роман, который, по мнению Л. Шубина, «рос как дерево», буквально «вырастал» из рассказов и повестей [16: 208]. Это центральное произведение писателя, посвященное революционным преобразованиям в России. Одновременно его содержание – вне времени и пространства или вбирает в себя самые разные времена и пространства. Роман был написан в переломный момент в судьбе страны и писателя, а потому в произведении можно увидеть, как тесно переплетаются надежды и разочарования, связанные со строительством коммунизма. Роман содержит социально-философскую, онтологическую, экзистенциальную проблематику. Ищущий ответы на вопросы Платонов охватывает в произведении множество тем – от революционных преобразований общества и переустройства мира до утраты духовных скреп и сиротства.
Первый шведский перевод1 «Чевенгура» под названием «Дон Кихот в революции» был предпринят в 1973 году переводчиком, сотрудником шведской газеты «Дагенс Нюхетер», литературным критиком С. Вальмарком. Вальмарк сделал
многое для знакомства шведов с новой русской литературой. Его называли «шведским ухом на восток» [20: 12], подчеркивая его крепкую связь с Советским Союзом. В его переводах вышли произведения М. Шагинян, Л. Сейфуллиной, К. Симонова, А. Ахматовой, А. Солженицына, В. Аксенова и многих других писателей. Заслугой переводчика стало введение романа Платонова в шведский литературный контекст. Благодаря ему книга, еще неизвестная советскому читателю, вошла в круг наиболее значимых художественных источников о жизни и истории Советской России в Швеции.
Роман «Дон Кихот в революции» был представлен читателю в сокращенном виде: в нем отсутствовала, как и в парижском издании (1972 год), первая часть о дореволюционной жизни («Происхождение мастера»). В шведском переводе были сокращены, опущены и другие эпизоды («У Шумилина», «Семья Поганкиных», «Знакомство с богом», «Коммуна “Дружба бедняка”», «Ревзаповедник Пашинцева», «Копенкин и бандиты в Черной Калитве»). Название романа «Дон Кихот в революции» актуализирует не пространственно-временные или национальные координаты попытки строительства коммунистической утопии, а образ защитника революционных идеалов. Шведское название акцентирует связь платоновского романа о русской революции с романом испанского писателя М. де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1605–1615 годы). В шведской редакции романа произошло смещение сюжетных функций героев. В переводе гротескный, лиро-сатирический образ верного идеалам революции Пашинце-ва (своеобразная пародия на Дон Кихота) дан в сокращении – роль рыцаря революции взял на себя Копенкин. «Дон Кихот» Копенкин предстал в шведской версии главным героем романа, а «Гамлет» Дванов занял место его спутника. Впрочем, в платоновском романе герои меняют свои функции. Шведский профессор П.-А. Бодин увидел в двойственности центральный художественный прием Платонова [1]. Бодин рассматривает амбивалентность как ключ к пониманию поэтики художественных текстов, мировоззрения, личности и творческой судьбы писателя. Он пишет о конфликте «внутреннего» и «внешнего», спровоцировавшего возникновение уникальной художественной философии Платонова, а также ощущение поливариативности в рецепции его произведений. «Дон Кихот в революции» метафорически прочитывается и как призыв к защите идеалов революции, и как роман-путешествие, и как эпос о советской жизни и истории.
«Дон Кихот в революции» может быть осмыслен в рамках исторической поэтики – он обладает памятью жанра. Подобно испанскому предшественнику роман тяготеет к жанру утопии. В шведском переводе в большей степени развит сюжетообразующий рыцарский миф: верный идеалу революции Копенкин служит персонифицированной идее в виде Прекрасной дамы Розы Люксембург. «Дон Кихот в революции», как и оригинальный текст «Чевенгура», формирует концепцию литературного метажанра – метаутопии, совмещающей черты утопии и антиутопии. Двойственность создает уникальную возможность полифонического прочтения романа. Если в «Чевенгуре» дана антиутопическая социальная фантазия на тему нежелаемого будущего, то в «Дон Кихоте» сильнее выражена утопическая линия.
В «Чевенгуре» на всех уровнях проявляет себя поэтика загадки [2: 183]. В качестве основных принципов миромоделирования и создания образа у Платонова называют принципы зеркальности [18], деперсонализации и депсихологизации [10: 23]. Одной из загадок романа является фрагмент, где говорится о существовании «альтер эго» Саши Дванова: некоем «маленьком зрителе», «свидетеле» жизни человека, никого не беспокоящем «швейцаре». Кульминационным определением Другого в человеке стал «евнух души человека»2. В романе есть еще несколько эпизодов, усиливающих присутствие и зримость образа «евнуха души человека». В сцене ночлега героя у Феклы Степановны «Дванов почувствовал тягость своего будущего сна», и вновь по- является «уединенный грустный наблюдатель»3. При переезде «рыцарей революции» из ревзаповедника Пашинцева в Черную Калитву Два-нов чувствует, что его «сознание уменьшается», и снова возникает образ сторожа, «который не принимает участия в человеке, а лишь подремывает в нем за дешевое жалованье»4.
В современном платонововедении отсутствует единство в понимании семантики и роли «евнуха души человека» в художественном замысле автора. Образ соотносят с ангелом народных поверий [4: 56–58], наблюдателем из древнеиндийской философии Атманом [3: 42–43]. Его определяют через православную традицию [6: 57] и как знак слома христианской традиции в революционной стихии жизни [14: 55–56], находят смысловые переклички с образами из произведений М. Лермонтова и Ф. Достоевского [17: 59], Б. Пастернака [7]. Этот образ-понятие – квинтэссенция языка Платонова [8], задает угол восприятия художественного текста [18]. По мнению ряда исследователей, в «евнухе души человека» зашифровал и одновременно обозначил себя сам автор – Платонов. Это утверждение, с нашей точки зрения, спорное, так как в одном из писем к жене М. Кашинцевой Платонов замечал, что «истинного себя он еще никогда не показывал и едва ли покажет»5.
В словосочетании «евнух души человека» наибольший интерес представляет лексема «евнух». Словом «евнух» назывался «кастрат, в частности оскопленный слуга, предназначенный к служению в гаремах»6. В. И. Даль дает схожее определение: «скопец, каженик, кастрат; страж при гареме мусульман». В русской традиции словоупотребления в лексеме «евнух» объединялись такие значения, как «изуродованный, испорченный человек» и «хранитель, защитник, страж»7.
Шведский Академический словарь трактует слово «евнух» («eunuck») как «особый вид бесславных / позорных слуг в классической древности на Востоке: камердинер, надзиратель / смотритель, охранник женщин в гареме. Более общее значение – “скопец, кастрат”. Существует и переносное значение – “духовно стерильный человек”» [19] – истинный, правильный, совершенный, чистый, подобный Богу. В шведской культурной традиции смысловое содержание слова «евнух» оформлено антитезой: позор / чистота, бесславное / истинное существование.
В платоновском образе-понятии «евнух души человека» проявляет себя вариативность, множественность смыслов, чему способствует контекст и развернутый синонимический ряд: «маленький зритель», «свидетель», «швейцар», «ангел-хранитель», «уединенный грустный наблюдатель». «Евнух души» предстает защитником, стражем, ангелом-хранителем и в то же время зрителем, чужим, посторонним, близкое и в то же время далекое существо (человек), фаталист и идеалист в одном лице.
Обратимся к переводу.
«Чевенгур»
Но в человеке еще живет маленький зритель – он не участвует ни в поступках, ни в страдании – он всегда хладнокровен и одинаков .
«Дон Кихот в революции»
Men inom människan lever också en liten åskådare, som varken deltar i hand-lingar eller prövningar utan alltid står utanför, kylig och isolerad.
Дословный перевод со шведского языка
Но в человеке живет также маленький зритель / свидетель / очевидец, который не участвует ни в поступках, ни в испытаниях, но всегда посторонний / стоит в стороне, холодный и обособленный / изолированный.
Во фразе «он всегда хладнокровен и одинаков» автор использует лексему «одинаковый», которая синонимична значению слов «постоянный» и «равный». «Одинаковый» означает «равно заинтересованный или равно безучастный»; важным критерием является степень, качество соблюдаемого человеком равновесия. В шведском переводе использовано причастие «isole-rad» (досл.: изолированный, обособленный). Этот эквивалент может быть интерпретирован как «уединенный, одинокий, отделенный от ч-л. / к.-л.». В восприятии шведского читателя образ маленького зрителя, швейцара в описании состояния Дванова не «равно безучастный или равно заинтересованный», а «одинокий, посторонний». Ощущение обособленности усилено дополнительной фразой, отсутствующей в оригинале: «...alltid star utanfor, kylig och isolerad» (досл.: всегда стоит в стороне, холодный и обособленный). В переводе альтер эго Дванова не только присутствует характеристика «одинокого», «чужака», «постороннего человека», которая подкрепляется дальнейшим повествованием, где вводится вопрос «зачем он одиноко существует» (в пер.: «varfor han existerar i sin isolering», досл.: зачем он существует в своем одиночестве / в своей обособленности). Создается образ отчуждения – чужого – по отношению к жизни и себе самому.
«Евнух души…» – это метафора, которая, по мнению В. Подороги, амбивалентна и может означать, с одной стороны, внутреннего наблюдателя в душе, а с другой стороны – внешнего надсмотрщика за душой человека [10]. Метафора обладает высокой степенью образности, благодаря чему визуализируется в образе двойника Дванова. Эта характеристика главного героя, по мнению И. Спиридоновой, не носит универсальный характер, а представляет главного героя только в момент внутреннего надлома [14: 56], когда Дванов «в своих сиротских скитаниях в революционном мире окончательно утрачивает связь с народной христианской традицией» [14: 55]. О том, что эта характеристика не является универсальной для героя, свидетельствуют эпизоды, в которых образ Дванова определен через другие качества – совесть, сочувствие, теплоту.
Образ-метафора «евнух души человека», имеющий синонимический ряд характеристик героя в пределах одного повествовательного фрагмента (сторож, зритель), а также сцен, событий и состояний этого и других героев (болезнь, сон), реали- зует себя также как мотив (мотив двойничества). «Евнух души человека» как смысловое пятно, по Б. М. Гаспарову, укладывается в формулу «двой-ничество Дванова». Эта формула важна для понимания сюжета произведения – контаминация мотивов развивает и определяет художественную реальность, через мотив одновременно происходит оценка событий и героев. В отличие от А. Н. Веселовского, который определяет мотив как единицу сюжета, в современном литературоведении мотив все чаще рассматривают как единицу нарратива. Обращаясь к исследованиям И. В. Силантьева, подчеркнем его мысль о корреляции мотива и героя, в силу чего «евнух души человека» в «Чевенгуре» «оказывается в центре событий и формирует окончательный смысл произведения в целом» [13: 82]. Двойственность как принцип построения образа и мотива, а также героя и системы персонажей позволили шведскому слависту П.-А. Бодину рассматривать амбивалентность как ключ к пониманию поэтики писателя; конфликт внутреннего и внешнего, считает исследователь, порождает уникальную художественную философию Платонова [1].
В Швеции обстоятельный анализ фрагмента «евнуха души человека» проведен докторантом кафедры славянских языков гуманитарного факультета Стокгольмского университета Л. Шёк-вист. Ей принадлежат такие исследования, как: «Художественная картина мира А. Платонова: время и пространство в романе “Чевенгур”», «Принцип формирования системы персонажей у Андрея Платонова (на примере романа “Чевенгур”)», «Эстетика Платонова: проблема читателя», «К вопросу об антропоморфности нар-ратора в романе А. Платонова “Чевенгур”» [15]. Изначально определяя «евнуха…» как метафорический образ, она подчеркивает, что за ним (в нем) скрывается повествующая инстанция, определяющая ракурс восприятия текста, то есть приходит к пониманию «евнуха…» как мотива. Раскроем основные положения научного исследования Шёквист.
В работе «К антропоморфности нарратора…» развита мысль о присутствии в романе Другого, от лица которого ведется повествование. Шёк-вист опирается на исследования В. Подороги, однако сосредотачивает внимание на проблеме точки зрения в повествовательной структуре произведения, а не на философском дискурсе проблемы. В российском литературоведении образ Другого рассматривала Н. Полтавцева на материале драматургических произведений [11], [12]. Диалогичность как особенность драматургии определяет наличие в произведениях для театра Героя и Другого. Это положение может быть применено и к прозе Платонова, так, в «Чевенгуре» наблюдается внутреннее «расщепление» «Я» Дванова на две роли – «Я» и «Он». Рассматривая «евнуха души…» в контексте образа Другого, Подорога и Полтавцева развивают философско-антропологическую концепцию. Шёквист анализирует формы проявления и функции Другого в повествовательной стратегии автора. Нарратор в «Чевенгуре» существует и в самом повествуемом мире, и в акте повествования, и поэтому представлен по-разному. В повествуемом мире нарратором является «евнух души», а в акте повествования Другой «обнаруживает себя в “странностях” платоновского стиля».
Шёквист применяет теорию психоанализа Фрейда. Рассматривая «евнуха души человека» в свете сомнологии, она выходит на категорию бессознательного (аналогичный подход находим у Н. Пенкиной [9]): «…повествующую инстанцию можно обнаружить, когда герой спит, а вернее, когда его сознание находится в состоянии забытья (то есть в бессознательном состоянии. – И. Р. )» [15]. Роман «Чевенгур» рассказан Двановым в состоянии сна, где «евнух души человека» – это метафора предсознательного. В состоянии сна мысли прорываются в сознательное, «преображаясь» в словах романа. Шёквист считает, что нарратор (он же евнух) «богоподобен», он присутствует везде и во всем [15].
В отличие от отечественных работ, в которых «евнух» рассматривается с позиции непосредственно смыслового наполнения (кто есть «евнух» в романе, кого / что имел в виду Платонов), в работе шведской исследовательницы акцент сделан на нарративных стратегиях (зачем, почему этот образ возникает и какую функцию несет в тексте) в духе современных европейских исследований (ср.: А. Кеба «“Точки зрения” в контексте повествовательных стратегий» [5]). По нашему мнению, к анализу фрагмента можно применить не только теорию Фрейда, но и другие психоаналитические концепции XX века, например теорию архетипов К. Юнга. В таком случае у Платонова можно увидеть архетип Самости, держащий в единстве бессознательное и сознательное начало человеческой личности. Он персонифицирован в образе «евнуха души» Дванова. Архетип Самости стремится к гармонии сознательного и бессознательного, и до тех пор пока гармония отсутствует – душа человека неспокойна.
Другая шведская исследовательница, славист Т. Лане анализирует фрагмент иначе. Отправной точкой литературоведческого исследования является изучение сознания. Сновидения героев, считает Лане, становятся для автора способом создания утопии и раскрытия утопического сознания. Дванов находится в полусознательном состоянии. За ним наблюдает «евнух души человека», или «ангел-хранитель» – образ, который и есть сознание. Лане обращает внимание на то, что Платонов создает образ внутреннего мира человека как сооружения – «дома» с жителями. «Люди входят и выходят, и только бодрствующий швейцар отвечает за постоянство и порядок. Он всегда присутствует в человеке, несмотря на то, что его там нет, он ничего не говорит об обозреваемой жизни, и даже не живет в человеке – у него “квартира в другом доме”» [22]. Лане рассматривает проблему отчуждения «внутреннего я», изоляцию сознания и считает, что наличие объективного сознания (подобно «мертвому брату» человека) связано с контролем над «интимной» составляющей (подобные идеи встречаются у Хайдеггера) [22].
Шёквист трактует «евнуха» как образ и мотив, Лане, в свою очередь, видит в нем образ-метафору. Обе развивают концепции на основе категории «сознания», но делают это по-разному: Шёквист – с позиции психоанализа и поиска нар-ратора, Лане – с точки зрения философии и утопического мышления. Фрагмент дает возможность взглянуть на роман как диалог сознаний, где наряду с субъективным суждением вводится, так сказать, разоблачающее мнение эксперта. Если, по Шёквист, «разоблачающее» начало принадлежит предсознанию, находится внутри человека, то у Лане «экспертная» точка зрения обнаруживает себя вовне.
Однако и Шёквист, и Лане приходят к общему выводу и рассматривают «евнуха души человека» как объективного рассказчика, отличающегося от реального героя Дванова и знающего финал. В обоих исследованиях «евнух души» трактуется как синоним (или вариант) ангела. Ангелы в христианском учении – это бесполые, бестелесные существа. Это представление находит отражение в семантике слова «евнух», главное значение которого «скопец», «каженик». В шведской культурной семантике в слове «ангел», как и «евнух», присутствует значение «стерильности». С одной стороны, евнух указывает на бесполое существо, с другой стороны, имеет свойство духовной чистоты – и первое, и второе корреспондирует с понятием ангел. Физическое «Я» ангела эфемерно, оно отчуждено от духовного «Я». Телесная «несостоятельность» ангела компенсирована внутренними ресурсами: ангел одарен разумом, который соединяет сознательное и бессознательное, он является духовной субстанцией. На примере образа Дванова видно, как материя и сознание сосуществуют, являются отражениями друг друга. Дванов и евнух – это «зеркальные перевертыши»: ангел как существо идеальное противопоставлено реальному Двано-ву. Там, где присутствует «недостача» у одного, у другого наблюдается «излишек» (телесность, разум, чувственность и пр.).
Ангел – это и сторонний наблюдатель, и страж, но главное, что он определяет угол сознания, фиксирующий внутренние и внешние метаморфозы. Он наделен функцией посланника Бога. Его кредо звучит как «Я там, где я нужен». Об ангельской функции «евнуха души человека» пишет Т. Лане: «евнух» приходит к человеку в трудные минуты, когда в нем больше всего нуждаются [22]. Он находится и «с человеком», и «в человеке», и «вне человека». Повествование в романе ведется от третьего лица, в нем присутствует «всезнающий» нарратор, который более активно проявляет себя в эпизодах с главным героем. Этим «созерцающим умом», безличным существом является «евнух души», он же представлен в повествовании с точки зрения народного христианства как «ангел-хранитель», который проникает в самые потаенные уголки сознания персонажа.
В современном отечественном и шведском литературоведении сложились несколько подходов к интерпретации «евнуха души человека»: философское, философско-антропологическое, психологическое, философско-психоаналитическое, сомническое и др. Разнообразие научных исследований лишь подтверждает, что образ-метафо-ра-мотив «евнух души человека» в «Чевенгуре» требует дальнейшего изучения. Статьи шведских славистов Бодина, Шёквист, Лане и других намечают важные перспективы в вопросе рецепции творчества Платонова.
Список литературы "Евнух души человека..." в романе А. Платонова "Чевенгур": диалог российского и шведского литературоведения
- Платонов А.П. Чевенгур: Роман; Котлован: Повесть . М.: Время, 2011. С. 104
- Платонов А. «.я прожил жизнь»: Письма. 1920-1950 гг. М.: Астрель, 2013. С. 200.
- Брокгауз Ф. А. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб.: Семеновская типолитография, 1893. Т. XI. С. 421-422.
- Даль В.И. Толковый словарь Живаго Великорусскаго языка: В 4 т. СПб.; М., 1880. Т. 1 (А-З). С. 528.
- Бодин П.-А. Загробное царство и Вавилонская башня. О повести Платонова «Котлован»//Классицизм и модернизм. Тарту: Тартуский университет, 1994. С. 168-183.
- Вьюгин В.Ю. Андрей Платонов: поэтика загадки (Очерк становления и эволюции стиля). СПб.: РХГИ, 2004. 440 с.
- Дмитровская М.А. Проблема человеческого сознания в романе А. Платонова «Чевенгур»//Творчество Андрея Платонова: Исследования и материалы. Библиография. СПб.: Наука, 1995. С. 39-52.
- Дырдин А. Потаенный мыслитель. Творческое сознание Андрея Платонова в свете русской духовности и культуры. Ульяновск: УлГТУ, 2000. 172 с.
- Кеба А.В. «Точка зрения» в контексте повествовательных стратегий//Бiблiя i культура: Зб. наук. ст. Чернiвцi: Рута, 2009. Вип. 11. С. 214-218.
- Колесникова Е.И. Духовные контексты творчества Платонова//Творчество Андрея Платонова: Исследования и материалы. Библиография. СПб.: Наука, 2004. С. 34-60.
- Ливингстон А. Гамлет, Дванов, Живаго//Творчество Андрея Платонова. СПб., 2004. Кн. 3. С. 227-241.
- Михеев М.Ю. В мир Платонова через его язык. Предположения, факты, истолкования, догадки. М.: Изд-во МГУ, 2002. 407 с.
- Пенкина Н.В. Философские идеи прозы Андрея Платонова: проблема человека: Монография. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2012. 104 с.
- Подорога В. Евнух души (Позиция чтения и мир Платонова)//Вопросы философии. М.: Наука, 1989. № 3. С. 21-26.
- Полтавцева Н. Другой с позиций философской антропологии: процесс индивидуации в драматургии Андрея Платонова//Поэтика и риторика диалога: Сб. науч. ст. (к 60-летию проф. Т.Е. Автухович). Гродно: ГрГУ, 2011. С. 71-84.
- Полтавцева Н. Образ Другого в драматургии Андрея Платонова: синтез имагологии и философской антропологии//Лiтературна компаративiстика. Вип. IV: Iмагологiчний аспект сучасної компаративiстики: стратегiї тапарадигми. Ч. II. К.: ВД «Стилос», 2011. С. 171-200.
- Силантьев И.В. Поэтика мотива. М.: Языки славянской культуры, 2004. 296 с.
- Спиридонова И.А. Творчество Андрея Платонова: Проблемы интерпретации художественного текста: Учеб. пособие. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. 155 с.
- Шёквист Л. К вопросу об антропоморфности нарратора в романе «Чевенгур»//«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М.: ИМЛИ РАН, 2005. Вып. 6. С. 432-441.
- Шубин Л.В. Поиски смысла отдельного и общего существования: Об Андрее Платонове. Работы разных лет. М., 1987. 368 с.
- Яблоков Е.А. На берегу неба (Роман Андрея Платонова «Чевенгур»). СПб.: Petropolis, 2001. 375 с.
- Яблоков Е.А. Принцип художественного мышления А. Платонова «"И так, и обратно" в романе "Чевенгур"»//Филологические записки. Вып. 13. Воронеж, 1999. С. 14-27.
- Svenska Akademiens ordbok. Available at: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/(accessed 12.09.2016).
- Forsgren J. Levnadsteckning över Sven Vallmark//Bäfvernytt. Medlemsblad för Härnösands Släktforskare. 1999. № 20. Available at: http://harnoforskare.eu/bafvernytt/bn_020.pdf (accessed 12.09.2016).
- Platonov A. Don Quijote i revolutionen. Stockholm: P. A. Norstedt & Söners förlag, 1973. 317 p.
- Lane T. Andrey Platonov: The Forgotten Dream of the Revolution