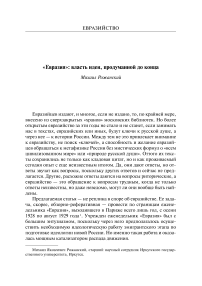«Евразия»: власть идеи, продуманной до конца
Автор: Рожанский Михаил Яковлевич
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Евразийство
Статья в выпуске: 1-2, 1999 года.
Бесплатный доступ
Евразийцев издают, и многое, если не издано, то, по крайней мере, внесено из сверхзакрытых «хранов» московских библиотек. Но более открытым евразийство за эти годы не стало и не станет, если занимать нас в текстах, евразийских или иных, будут ключи к русской душе, а через нее - к истории России. Между тем не это привлекает внимание к евразийству, не поиск «ключей», а способность и желание евразийцев обращаться к метафизике России без мистических формул о «всем цивилизованном мире» или «природе русской души». Оттого их тексты сохранились не только как кладовая цитат, но и как проживаемый сегодня опыт с еще неизвестным итогом. Да, они дают ответы, но ответы звучат как вопросы, поскольку других ответов и сейчас не предлагается. Другие, расхожие ответы даются на вопросы риторические, а евразийство - это обращение к вопросам трудным, когда не только ответы неизвестны, но даже неведомо, могут ли они вообще быть найдены. Предлагаемая статья - не реплика в споре об евразийстве. Ее задача, скорее, обзорно-реферативная - провести по страницам еженедельника «Евразия», выходившего в Париже всего лишь год, с осени 1928 по август 1929 года 1. Учрежден еженедельник «Евразия» был с большим энтузиазмом, поскольку через него предполагалось осуществить необходимую идеологическую работу эмигрантского этапа по подготовке идеологии новой России. Но именно такая работа и оказалась мощным катализатором распада движения.
Короткий адрес: https://sciup.org/14911716
IDR: 14911716
Текст научной статьи «Евразия»: власть идеи, продуманной до конца
Евразийцев издают, и многое, если не издано, то, по крайней мере, внесено из сверхзакрытых «хранов» московских библиотек. Но более открытым евразийство за эти годы не стало и не станет, если занимать нас в текстах, евразийских или иных, будут ключи к русской душе, а через нее — к истории России. Между тем не это привлекает внимание к евразийству, не поиск «ключей», а способность и желание евразийцев обращаться к метафизике России без мистических формул о «всем цивилизованном мире» или «природе русской души». Оттого их тексты сохранились не только как кладовая цитат, но и как проживаемый сегодня опыт с еще неизвестным итогом. Да, они дают ответы, но ответы звучат как вопросы, поскольку других ответов и сейчас не предлагается. Другие, расхожие ответы даются на вопросы риторические, а евразийство — это обращение к вопросам трудным, когда не только ответы неизвестны, но даже неведомо, могут ли они вообще быть найдены.
Предлагаемая статья — не реплика в споре об евразийстве. Ее задача, скорее, обзорно-реферативная — провести по страницам еженедельника «Евразия», выходившего в Париже всего лишь год, с осени 1928 по август 1929 года 1. Учрежден еженедельник «Евразия» был с большим энтузиазмом, поскольку через него предполагалось осуществить необходимую идеологическую работу эмигрантского этапа по подготовке идеологии новой России. Но именно такая работа и оказалась мощным катализатором распада движения.
Михаил Яковлевич Рожанский, старший научный сотрудник Иркутского государственного университета, Иркутск.
В поисках новой идеологии
Первый номер еженедельника датирован 24 ноября 1928 года. Интересно сопоставить помещенные в нем программные статьи Л. П. Карсавина и Н. Н. Алексеева, поскольку вскоре Карсавин останется безусловным лидером газеты, а Алексеев активно будет защищать от нее движение евразийцев.
Карсавин замечает, что участники 3-й великой революции — Русской — не поняли ее, точно так же, как не поняли смысл английской и французской революций их участники. Лишь немногие (Ленин) сумели подняться выше своей фазы и благодаря историческому чутью нащупать темные (для всех) пути. Долг осмыслить революцию лежит на тех, кто оказался на периферии ее событий и видит революцию со стороны. Кровавые жертвы революции пропадут даром, если сейчас не пожинать ее плодов. Пришло время жатвы, призывающее действовать на два фронта:
— против теней прошлого и призраков европеизма;
— против сделавших свое дело «революционных формаций».
Новый правящий слой поднялся, по мнению Карсавина, из трудовых масс — из пролетариата, поскольку крестьянство безынициативно. Выдвигается трудовая интеллигенция, призванная играть организационную роль. Плодом революции является и Советское государство, «т. е. в пределе — подлинное народоправство».
В чем же идея революции?
«Это не национальная, но и не безнациональная, а сверхнациональная и как раз в силу своей сверхнациональности развивающая свои национальности государственность. В Русской революции — семена России-Евразии, свободной федерации народов, так же, как и в Английской революции — семена колониальной империи, во Французской — империи Наполеона».
В результате Английской революции обособился англо-саксонский мир; Французская, по оценке Карсавина, — европейское явление; Русская же — «начало нового периода в развитии всего человечества». Марксизм был смутным предчувствием Русской революции. Марксизм — единственное монистическое понимание истории, не пренебрегающее ее материей, но односторонне материалистическая теория. «Мы должны найти и противопоставить ей другую», тоже монистическую, учитывающую материю, но не впадающую в материализм.
Собственно в этой статье Карсавин сделал заявку на все то, что на своих страницах реализовывал еженедельник. Но пока дело не дошло до деталей, карсавинская точка зрения не противостояла, а нормально соседствовала с той, которая содержалась в статье Алексеева.
Алексеев в своей оценке революции и перспектив работы, созвучной деятельности правящего слоя дореволюционной России, стремился обозначить, что мотивы принятия революции у евразийцев особые, что принятие — это выбор исторический и необходимый: «Склониться не перед силой новой власти, но перед волей русского народа, перед волей истории».
При этом важно не раствориться в стихии, не отказаться от себя: «Мы — новое культурное течение русской жизни...… Мы стремимся довести темную стихию революции, на которую смотрим, как на выражение глубочайших народных инстинктов и верований, до состояния самосознания, являющегося в то же время самосознанием особой культурной личности, именуемой Россией-Евразией».
«Таким образом, революцией заканчивается период подражания чужим культурным формам и открывается эпоха собственного культурного творчества».
В русской революции, которая вызвана социально-экономическими причинами, мы наблюдаем «яркий пример господства идеи над социально-экономическими условиями». Идея изживает себя: как интеллигенты «меняли вехи» от марксизма к идеализму, так пойдет и массовый процесс. Место марксизма займет новая идеология, и евразийцы ищут ее.
Так что «культурно-историческое отношение» Алексеева также устремлено к поиску идеологии. Программные статьи и замечательного философа Карсавина, и известного правоведа Алексеева написаны вполне идеологически ориентированными людьми. Но есть и подробность, через которую проступает сущность различий. У Карсавина названо имя — Маркс, сделана заявка на место в каталоге направлений — монизм, не идеалистический, но и не сугубо материалистический. Наконец, обозначена уверенность, что некая онтологическая концепция необходима не только для осмысления происшедшего, но для самого дальнейшего исторического движения. Для Алексеева поиск идеологии — это, скорее, течение, имманентное (и, конечно, опережающее) потоку жизни, задача сделать историческую народную импровизацию осознанной. Разница двух идеологических программных статей — не просто отличие между двумя авторами, двумя мыслителями, — это та разница приоритетов в социальной работе интеллигентов, которая заставляет одних вкладывать себя в идеологическую и пропагандистскую работу, а других — заботиться о сохранении культурно-этического смысла своего участия, своих симпатий и отмежеваний. Самое важное в такой разнице приоритетов — отношение к личному духовному опыту, включение или не включение его в предмет. Целеустремленная идеесозидательная работа как бы исходит из внутренней убежденности в праве на идейную власть над процессами, то есть, по сути, — на власть над жизнью и людьми; или же из чувства исторических обязательств, кои легко оборачиваются все теми же внутренними правами и выданными себе индульгенциями. Известен лишь один способ разрешения этого противоречия (который к тому же не может быть рецептом): постоянное осмысление личного духовного опыта ошибок, поражений, опозданий, суеты. Иначе говоря, необходимо включить самого себя в предмет осмысления и как конкретную личность, и как некий духовный тип.
Речь не о том, что Карсавин и Алексеев — люди, разные по своим политическим взглядам, по отношению к идейной работе или по отношению к самим себе, и не о том, что еженедельник «Евразия» стал органом идеологов и пропагандистов, лишенных этического начала. И даже не о том, что евразийцы размежевались в 1928–1929 годах по идейно-политическому критерию. Само пребывание в круге «евразийцев» — уже свидетельство стремления к идеесозидательной работе, как и внутренние этические задачи, и приоритеты в статьях за подписями двух авторов — не раз и навсегда совершенный выбор. Речь о том, что целеустремленная идеесозидательная работа в конкретном движении, в конкретной среде и в конкретную эпоху создавала внутренние этические трудности, которые по-разному замечались, по-разному разрешались, но неизбежно разводили интеллигентов, попытавшихся наладить согласованную идейно-организаторскую работу. Судьба еженедельника «Евразия» — это проявление логики идеокра-тической позиции, вытекавшей не из «левизны» или амбиций Карсавина, а из амбиций евразийского движения.
В том же первом номере есть статья В. П. Никитина, замечательная тем, что в ней ставятся вопросы самопознания. Статья называется «Мы и Восток»: «Восток вошел в нас неотъемлемым элементом, одним из основных слагаемых нашего духовного типа. Восток в нас самих, это нужно принять и, принявши, возможно лучше понять и развить. Развить положительные черты, устранить отрицательные».
Годом раньше именно В. П. Никитин откликнулся на «Начертания русской истории» Георгия Вернадского живыми воспоминаниями о походе с бурятскими казаками на Средний Восток 2, но и здесь, в статье, прямо не посвященной личному опыту, можно почувствовать, как в лексике, в интонации, в гласной и неявной мотивации обращенность к своему опыту уживается с идейно-организаторскими устремлениями. В. Н. Никитин останется в еженедельнике и после раскола. Не только в его статьях но едва ли не во всех материалах будут по-прежнему присутствовать мотивы самопознания, но кесарю будет отводится кесарево, а Богу оставляется Богово, и возобладает в еженедельнике не осознание Евразии в личной судьбе, в личном опыте и не осознание себя в евразийстве, а идеократия. Идеократия как тема и идеократия как власть идейной работы над самими работниками.
Необходимость идеократии, как писал под инициалами Л.Л. один из авторов «Евразии» (№ 4), вытекает из того, что демократия — «техническое средство, слабое и устаревшее» для сегодняшнего момента и оно возможно лишь в демократических условиях, а для того, чтобы эти условия создать, нужно нечто иное, а именно «действие на основе и в направлении эффективной идеологии». Другой автор № 4, обозначенный инициалами И.С., предупреждает, что после ослабления ком-диктатуры в России возрастет число сторонников прежнего режима, и потому свободные выборы принесут России «грызню партий»: «Эмигрантские дрязги — скромный пролог того, что собираются создать демократы в России».
Идеократия имеет вполне прагматическое обоснование и не означает культа идеологии евразийства, точнее, в материалах «Евразии» постоянно присутствует грань между идейной апологией и практическим разумом. Карсавин в этом смысле наиболее пограничен и подвижен, он пишет о социализме и марксизме как об одной «из человеческих, исторически обусловленных теорий», уверяет, что «здоровые зерна марксизма рано или поздно отсеются и обнаружат всю свою жизненно-действенную силу» и что это уже «медленно и мучительно» совершается в СССР.
Продолжается в еженедельнике и реабилитация национализма, заявленная еще в начале двадцатых годов отцами евразийства и прежде всего самим Николаем Трубецким и именно в его духе — не как культа наций и традиций, а как поиска поприща, самобытности, будущего. Да, поиск этот — осознание происхождения, но настоящее при этом не отрицается, а оказывается естественным пространством самопознания.
В редакционной статье «Путь евразийства» (№ 8 от 12.01.1929) вполне отчетливо выражено отношение практического разума к своей идейной работе: сначала евразийцы неверно оценивали русскую революцию как восстание русского народного начала против петровской европеизации, но затем рассмотрели в ней новую эру.
«Русская революция утверждает примат Общего над Частным, этику, основанную на организационном долге, человека-деятеля, а не человека-потребителя»; «утверждая равенство, она не отменяет свободу. Наоборот, она утверждает единственную реальную свободу — свободу распоряжения материальными благами, свободу-равенство».
Отвлечемся от злобы того евразийского январского дня. В цитируемой статье утверждается еще и не названный приоритет философии над историософией. Попытка заново решить проблему равенства, не жертвуя свободой, — попытка справиться с противоречиями истори- ческого существования через утверждение иной, внеисторической системы ценностей, примата Общего над Частным. Евразийцы «Евразии» и посвящают себя разработке этой системы. В тумане русской революции, в хаосе «Новой эры» они пытаются угадать, усмотреть, увеличить мыслительной линзой некую импровизацию. На такое рассмотрение и направлена цитируемая статья из восьмого номера. Коллектив, даже не коллектив, а коллективность — самоназвание революционной постоктябрьской массы — предстает для них «этической общностью», то есть единством общего и частного, но «этической общностью» не в кантовском смысле, где развитый индивид — отправной пункт, участник и самоцель, а в федоровском, где частный человек — предпосылка, член и частный результат: «Для многих из нас Философия Общего Дела была ключом, открывшим нам истинное содержание нашей собственной философии». И ниже: «Федоровскому кругу идей мы обязаны в значительной мере и тем, что изо всех западных мыслителей нам стал самым близким Маркс — утверждение, которое еще два-три года тому назад удивило бы большинство евразийцев».
Не случайно статьи восьмого номера так программно выразительны и пафосны. Номер был первым после публичного отмежевания от еженедельника «Евразия» основателей и авторитетов движения.
Документы, обозначившие отмежевание, датированы декабрем 1928 года и январем 1929 года 3. Первыми актами были Обращение Белградской группы евразийцев к редколлегии еженедельника (15.XII) 4 и Постановление совета Пражской группы евразийцев (16.XII) 5. Обращение тоже походило на постановление: констатирующая и постановляющая части, лексика, тон. Главный грех еженедельника — отказ от максимализма, замалчивание «ценнейших и глубочайших сторон Евразийского учения» 6. Утрата целостности евразийского учения, по мнению авторов, опасна тем, что для преодоления марксизма, загипнотизировавшего Россию своим размахом и максимализмом, нужна равноценная по размаху идеология, новый максимализм. Тому здоровому и творческому, что есть в правящем слое России, нужно предложить идеологию для преодоления изживаемого марксизма, но идеологию «такого же духовного качествования» 7. Залог грядущего торжества евразийства — «воля к конечной победе своей идеи, в сочетании с идеологической прямолинейностью» 8. Газета пожертвовала максимализмом ради тактики и предложила суррогат евразийства. По Обращению рассыпаны также упреки изданию в исчезновении русского духа, «который несомненно имеется, например, в национал-большевизме Устрялова» 9, в сближении с безбожноинтернациональным марксизмом, в беспощадной «европеизации» русского языка авторами еженедельника («казалось бы, именно евра- зийскому изданию следовало бы решительно стать на защиту и охранение русского языка как носителя нашего самосознания» 10. «Постановляющая» часть состоит из десяти пунктов требований («пожеланий») к еженедельнику, исполнение которых позволило бы сделать «Евразию» рупором всего организованного евразийства, чтобы «важнейшие линии газетной политики...… не являлись неожиданными для территориально оторванных от издательского центра местных евразийских группировок» 11.
Постановление Пражской группы было кратким, разъясняющим и руководящим. Уклон «органа» выводился из «марксистскоидальных», и даже «коммуноидальных» уклонов, наметившихся в Парижской группе «за последние 2–3 месяца»; заверялось, что «приняты все меры к устранению этого недопустимого снижения Евразийской идеологии и восстановлению чистоты Евразийской линии» и что «в ближайшие две недели вопрос будет совершенно разрешен, и о результатах будет доведено до сведения», а пока «в спорах и разговорах об органе» предписывалось «решительно поддерживать статьи Трубецкого, Алексеева, Савицкого, Никитина и частично то, что не противоречит непосредственному евразийскому чутью» 12. И в завершение провозглашается: «На все остальное надлежит смотреть как на ущербленное и потому подлежащее исправлению» 13.
Прошло три недели, и 5 января 1929 года Пражская группа заявила в Обращении к редакции «Евразии» о разрыве с еженедельником, предварительно обрушив перечень риторических обличающих вопросов, касающихся содержания первых шести номеров 14. А перед этим, 31 декабря 1928 года в редакцию направил письмо о разрыве отношений и о свершившемся факте раскола главный авторитет — основатель движения Н. С. Трубецкой, отказавшийся участвовать далее в евразийской работе из-за невозможности восстановить «внутреннее единство и равновесие евразийства» и из-за грядущей опасности, что взаимоотталкивание евразийских течений уведет их в противоположные крайности: «От своих убеждений, высказанных мною в ряде статей за моею подписью в разных евразийских изданиях… я не отказываюсь. Но нести ответственность за теперешнюю эволюцию евразийства я при создавшихся условиях не могу и не хочу» («Евразия», № 7, от 5 января 1929 года).
Лексики и интонации процитированных документов вполне достаточно, чтобы видеть, что предсказание Трубецкого о возобладании крайних течений сбылось еще до того, как он его сделал. Но если по провозглашенным идеям и частным оценкам авторов «Евразии» и авторов постановлений-обращений можно рассматривать как представляющих противоположные крайности, то в чем они абсолютно близки, так это в исторической ставке на идеологию, оставаясь после- довательными продолжателями евразийского зачина и последовательными выразителями идейного энтузиазма своей эпохи, своей страны и своей среды.
Редакционная заметка в «Евразии» № 9 отметала обвинения в не-евразийстве, заявляла о демонстративном устранении от полемики и четко провозглашала основные стратегические линии «Евразии»: разработку, во-первых, проблем историософии и, во-вторых, проблем современной России. Второй круг проблем подразумевал теорию революции, а также вопросы о новом правящем слое, о его идеологии и об «огосударствлении революции как о ее должном завершении». Здесь «дальнейшее развитие евразийской идеологии оказывается связанным с критикой марксизма и федоровства», причем с положительной критикой. Провозглашенные основные линии «допускают разнообразие индивидуальных их выражений и отнюдь не требуют педантичного ригоризма. Тем не менее в настоящую в высшей степени ответственную фазу развития евразийства представляется необходимым с особой резкостью подчеркивать магистрали идеологии и противопоставлять их индивидуальным уклонам». Магистралью идеологии была идеократия.
Концепция идеократии. Финал «Евразии»
В феврале-апреле 1929 года «Евразия» поместила десять обширных (в среднем — на полосу) редакционных статей «Проблема идеокра-тии». Статьи методически выполняли задачу по разработке концепции. Прежде всего снималось подозрение в стремлении к идеологический деспотии: необходимость идеократии выводилась из нерешенности вечных российско-евразийских проблем и негодности для их решения наработанных европейских рецептов. Отмечалась потребность в новом соотношении «политически инициативных и хозяйственно-производительных начал» в новой конструкции, которая шла бы навстречу российской жизни и обеспечивала бы ей будущее. При этом идеократия отвергала не только буржуазную культуру, но и «буржуазность» вообще. В том же № 12 Карсавин в авторской статье разъяснял, как идеократия противостоит буржуазности: евразийство борется с индивидуализмом, ошибочно иногда считая, что борется с Европой, а демократия и демократическая идеология, служа индивидуализму (и не служа народу — народ в условиях «демократии» безвластен и бессилен), отрицает общеобязательные идеи, нахваливая себя как систему «релативизма». Идеократия предлагалась как проведение таких общеобязательных идей в обустройстве града земного, обуст- ройстве ради народа, а для града Божьего отводилась «соборность». Лев Платонович так и предлагал — развести кесарево и Божье.
Разобравшись с индивидуализмом, нужно было определяться и с коммунизмом. Этому была посвящена статья «Проблема идеократии» в № 14, отмечавшая, что главная удача коммунистической идеологии — в диагнозе, поставленном буржуазному сознанию и буржуазному строю жизни. Буржуазное и прогресивно-демократическое сознание неправомерно смешивают два принципа: «гражданской» борьбы как закона жизни и «гражданской» свободы как автоматического осуществления «прогресса» (все кавычки источника). Позднее в статье «Еще о демократии, социализме и евразийстве» Карсавин подчеркнет — в который раз! — что для русских демократов будущего нет, поскольку, как с будущим, они носятся с современной («в лучшем случае») или прежней Европой. Русский демократ — пророк вчерашнего дня, и это — некрофилия. Евразийцы же смотрят в будущее, и это их преимущество, но и их трудность, поскольку будущее может быть только неопределенным. Казалось бы, именно здесь евразийцы близки к коммунистам, но коммунисты недаром «выросли и развились в атмосфере демократического умосостояния. Смотреть-то в будущее они смотрят, но не так, как следует. Понимая будущее как логически необходимый вывод из настоящего и прошлого, они пытаются определить и создать это будущее в категориях, которые существуют только в настоящем и прошлом». Иначе говоря, «идеальное коммунистическое общество — лишь перестройка и перетасовка буржуазно-капиталистического, а не замена его чем-то принципиально иным».
В двадцатом номере редакционная статья, названная «Идеократия и марксизм», продолжает эту тему: теоретическая и относительная практическая удача марксизма связана с тем, что он сумел соединить два начала — детерминизм и революцию, то есть спонтанную социальную динамику. Но его коренной дефект в том, что до сих пор не выяснен систематический смысл этого сочетания. Отсюда догматизм и качественное снижение проблематики, отсюда и механицизм. Жизненная энергия идеократии в том, чтобы органично соединить логику истории с преобразовательной импровизацией на континенте «Россия», задающей другим континентам условия для общей импровизации. Очевидно, эти взгляды опирались на уверенность, что именно русская почва, в отличие от европейской, способна породить строй идей, соединяющий несоединимое, и что сам факт русской революции как коммунистической доказывает это.
Уже в этапном девятом номере редакция заявила два основных круга проблем, к номеру шестнадцатому эти круги сменили наименования и поменялись очередностью. В первый, «статический» круг разрабатываемых проблем было зачислено систематическое россие- и востоковедение, призванное «оформить материально-конкретную систему элементов по новому понятию русского мира». Второй круг, определенный как «динамический» и «диалектический», нацелен не на оформление, а на понимание, а потому определяется и как историософский, и как тот, «в который евразийство вступило сравнительно недавно в связи с разработкой проблемы идеократии и который должен определить его нынешнюю стадию». Таким образом, второй круг придавал идеократии статус философии истории, а в круге первом идеократия принимала прикладной характер. Идеократия должна была преобразовывать действительность, руководствуясь все более развитым пониманием отношений между русским человеком и русским миром, все более ясным определением места России в мире и мира в России.
Единомышленники из «Евразии» ринулись прочерчивать две линии, вопрос о соединимости коих по меньшей мере не решен. И можно быть только благодарным им за то, что в несколько месяцев на полосах пятнадцати-двадцати выпусков газеты была прожита судьба подобной попытки. Противоречие, которое смутно проступало на страницах первых «утверждений евразийцев» и даже первых номеров «Евразии», предстало с очевидностью, философия истории была утрачена в ходе идеологического строительства. Вопрос о совместности несовместимого — философии истории России и преобразования жизни, а вместе с ним и вопрос о возможности философии истории в России остались нерешенными, но, пытаясь отвечать на эти вопросы, мы имеем возможность обращаться к опыту евразийцев, обеспеченному и оплаченному их собственными судьбами. Еженедельник «Евразия» просуществовал меньше года, евразийцы — как связанные с еженедельником, так и отвергнувшие его, — действовали и публиковались еще не один год, но энергетика евразийского движения была форсирована и исчерпана на страницах «Евразии». Все дальнейшее имело инерционный характер.
В редакционной статье «Проблема идеократии» в № 17 читателям предложили структуру идеократической системы, изложенную крайне наукообразными усложненными языковыми конструкциями и представленную в виде чертежа, а систему этики излагала редакционная статья следующего, восемнадцатого номера. Собственно, эта статья и дает ключ к пониманию сущностной разницы между историософией и идеократией, искренне апеллирующей к историософским посылкам. Итак, внутри каждой личности (а личностью, напомним, евразийцы могут именовать не только отдельного индивида) существуют два типа этики:
-
— направленная на объект; здесь проявляется примат организационного внешнего действия (этика социальная);
-
— межсубъектная, лично-религиозный закон.
Но лично-религиозный закон можно установить лишь по отношению к предельному числу людей, и поэтому этическая деятельность все равно переходит в социальную, то есть направленную на объект. Второй тип этики оказывается неустойчивым, и, значит, сама личность должна уметь себя полагать тоже объектом. Таким путем возникает третий тип этического сознания:
-
— деятель полагает себя объектом.
Второй тип неустойчив потому, что он полный, то есть человеческий, и он оказывается промежуточным. Третий же тип, как и первый, — устойчивый тип самополагания. Как мы видим, право индивида или коллектива на организацию внешнего мира прямо зависит от степени преодоления субъективного начала в себе. Это уже не просто стратегическое примирение с правами общей идеологии по отношению к индивидуальным разногласиям (вспомним № 9), а этическое обоснование власти идеологии над философией. По сути, определив неустойчивую, «полную человеческую», межсубъектную этику как промежуточную, философ, писавший редакционную статью, признал ущербной и второсортной единственную почву и основу философии. Превращение человека в объект без остатка делает ненужной и невозможной философию как таковую. Маркс в «Тезисах о Фейербахе» понимал, что его концепция личности упраздняет философию, и осознанно по этому пути шел («философы лишь различным образом объясняли мир...…»); евразийцы «Евразии», выработав аналогичное понимание, видели в нем философские основания преобразовательного деяния, скрыв от себя два решающих противоречия. Во-первых, иерархия типов этики также может носить субъективный характер, по крайне мере, философ не может не поставить здесь вопроса и не включить вопрос в предмет. Субъективно близкая этика (человека-долга), принятая как единственно высшая и устойчивая, тем самым вытягивается в монистическую историософскую концепцию. Естественно, если субъективное отнесено в область случайного, не живущего, а свое собственное отношение к миру для философствующего человека (как и для иного) случайным быть не может, то собственная этика и принимается как объективно важная, как должное, как Идеал, то есть один тип связи с историей — преобразовательно-деятельный — принимается за должный и неизбежный. Второе же противоречие состоит в том, что, вырабатывая историософию, противостоящую индивидуалистической культуре, европейскому миру, призванную выразить мир России-Евразии, евразийцы закладывают в основание этическую систему, описывающую человека и историю через призму, расщепляющую мир на субъектно-объектный. Внеисторическими и вненационально-универсальными предстают сами основы западного мира и новоевропейской философии — субъектно-объектные отношения людей. Но то, что послужило основой для гегелевской философии истории, согласно исходным посылкам евразийства как «подлинного национализма», не может быть принято без критики при выработке историософии России-Евразии. Зато оно может послужить прекрасным основанием для идеократии.
Собственно, этими статьями уже все было предсказано, а как сбывались самопредсказания еженедельника, можно проследить по руководящим «историософским» положениям, набранным жирным шрифтом и забранным в рамочки, которые примерно в это же время помещались на страницах «Евразии». Некоторые фразы повторялись на каждой полосе, некоторые — из номера в номер.
«Пафос обличительства должен смениться пафосом ответственности» (№17).
«Всякий уклон от евразийства есть уклон от современности и обратно, так как современность и есть евразийство» (№ 18).
«Бороться во имя регуляции революции можно лишь при двух условиях: при наличии положительной идеологии и исторического оптимизма по отношению к современности» (№ 20).
«Чем сложнее становится положение революции, тем осторожнее и пристальнее нужно к ней относиться, чтобы в процессе подведения итогов не надломить или не сорвать ее основную интуицию» (№ 22).
Историческим оптимизмом по отношению к современности были продиктованы передовые статьи, сменившие после двадцать второго номера теоретические «Проблемы идеократии». Передовая в № 33 называлась «От необходимости к свободе» и отмечала как самое глубокое понятие марксистской историософии — прыжок из царства необходимости в царство свободы. Стремление Маркса изменить мир — существенное звено в освобождении человеческого сознания от натурализма, а буржуазный капитализм — это натурализм, позитивизм и атеизм (поскольку элиминирует природу). Но и сам марксизм отрывает человека от природы, рассматривая все через призму социологии. Нужно по-новому понять вопрос о человеке и природе: здесь и приходит Н. Федоров, зовущий к религиозности нового типа, то есть совершая метафизическое преодоление буржуазно-капиталистического строя.
В передовой следующего номера ставилась главная задача современности — «добиться сознательного отношения к революции, как реальности», то есть объединить «революционное дело» и «революционное сознание». Революция выходит из фазы разрушения и входит в «высшую стадию, когда революция означает подчинение исторического процесса планомерному замыслу и организованному сознанию. Если раньше лозунгом была революционная власть, то теперь лозун- гом является власть над революцией». «Октябрьская революция, — итожила передовая, — удалась, ибо первая из всех стала перманентной, то есть «формой власти над историей». Поставим здесь NB, чтоб вернуться к этой итоговой фразе позже.
В № 34 от 24 августа 1929 года сообщалось, что следующий номер выйдет 7 сентября.
В № 35 было две передовых: огромная передовая «К оценке современности» на второй странице с критикой капитализма и фашизма, а на первой странице — «Евразийство и СССР» с всесторонним одобрением практики советского государства (с оговоркой, что частный сектор надо регулировать, а не уничтожать). Определялась задача евразийской культуры — выработать новый тип человека и новую этику «в традиции марксистской системы», но, разумеется, против антирелигиозной политики. Осознав этический пафос новой культуры, поднять классовую борьбу «до уровня подлинной культурной проповеди и этического смысла»: «Иначе революции грозит или срыв, или мещанство».
На этом пафосе еженедельник исчерпал себя. Здесь же на первой странице сообщалось: «О выходе следующего номера будет объявлено особо».
* * *
Материалы еженедельника «Евразия», за исключением нескольких, так и не введены до сих пор в научный оборот. Его мимоходом клеймят те, кто судьбу евразийства связывает исключительно с кознями большевиков; о нем, извиняясь, упоминают публикаторы и поклонники философской мысли Льва Карсавина — мол, был такой эпизод в жизни глубокого философа, конечно же, краткий и для философа нехарактерный. Естественно, что в обоих случаях еженедельник вроде и не замечается, хотя элементарные требования к исследованию или наследованию не замечать его не позволяют: более объемного, тематически широкого и детального по реакции на конкретные события издания в истории евразийства не было. И можно ли понять замысел, пренебрегая деталями, прояснявшими его судьбу для самих замышлявших?
Единственная существующая версия судьбы «Евразии» — в еженедельнике взяли верх «левые» Карсавин и Святополк-Мирский — исходит из явно натянутой оценки Карсавина как «левого» и из крайне грубого деления евразийцев на «левых» и «правых». Круг авторов далеко не узок и место практически каждого из них на шкале «правые-левые» может быть предметом долгого и не имеющего конца спора, такого, что сама шкала предстанет не менее условной, чем в современной России. Но весь этот круг был подвергнут отлучению от евразийства. Может быть потому и отлучали, что на страницах еженедельника детально и логически последовательно было высказано то, что крупными мазками набрасывала смелая философско-историческая мысль. Детали и логические следствия, политические, методологические и прочие уточнения, призванные связать замысел с непосредственным действием, — все это и развело необычайно быстро людей, замыслом объединенных.
Век, страна, среда, судьба предписывали евразийцам формулировать ответы, переводить замыслы в цели — и вопросам придавалась форма ответов. Что же, на то мы и наследники, чтобы увидеть в ответах вопросы, в формуле — ту внутреннюю трудность, которую формула призвана была снять.
Список литературы «Евразия»: власть идеи, продуманной до конца
- Евразийский Временник. Непериодическое издание под редакцией Петра Савицкого, П. П. Сувчинского и кн. Н. С. Трубецкого. Кн. 5. Париж, 1927. С. 46-48.
- Алексеев Н. Н., Ильин В. Н., Савицкий П. Н. О газете «Евразия» (газета «Евразия» не есть евразийский орган). Париж, 1929. Приложения.