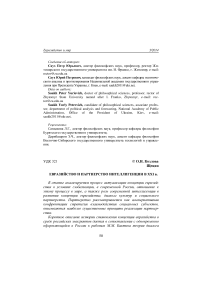Евразийство и партнерство интеллигенции в ХХІ в
Автор: Козлова О.Н.
Журнал: Восточный вектор: история, общество, государство @eurasia-world
Статья в выпуске: 3, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется процесс актуализации концепции евразийства в условиях глобализации, в современной России, отношение к этому процессу в мире, а также роль современной интеллигенции в развитии концепции евразийства, диалога культур и социального партнерства. Партнерство рассматривается как альтернативная конфронтации стратегия взаимодействия социальных субъектов, описываются наиболее существенные принципы реализации партнерства. Короткое описание истории становления концепции евразийства в среде российских эмигрантов дается в сопоставлении с одновременно оформляющейся в России в работах М.М. Бахтина теории диалога 50 Козлова О.Н. Евразийство и партнерство интеллигенции в XXI в. культур как методологии анализа перспектив развития партнерства на глобальном уровне. Показано, что реализованные в Новое время западный - «на запад» и российский - «на восток» проекты «освоения мира» практически не учитывали необходимость развития диалога культур. В условиях глобализации ренессанс концепции евразийства рассматривается как сложноорганизованный и внутренне противоречивый, в котором уровни государственно-политический, теоретический, агитационно-популистский развиваются не согласованно, охватывают амплитуду от рассмотрения евразийства как уровня развития диалоговых, партнерских отношений России с миром до использования лозунга «борьбы за евразийство» как оправдания призыва к насилию. Задачей интеллигенции в данной ситуации является преодоление рассмотренной противоречивости, выработка и реализация программы полного включения концепции евразийства как важного элемента отечественного социального капитала в систему развития партнерских отношений как внутри России, так и на глобальном уровне.
Евразийство, глобализация, партнерство, интеллигенция, социальный капитал, социальное доверие
Короткий адрес: https://sciup.org/148317939
IDR: 148317939 | УДК: 321
Текст научной статьи Евразийство и партнерство интеллигенции в ХХІ в
С самого начала ХХІ в. интенсивнее, чем прежде, проявляется тенденция глобализации, превращения человечества во все более целостное глобальное мировое сообщество. В ситуации, когда взаимодействие общества и природы находится в состоянии кризиса, когда различные социальные субъекты – общества действуют без учета необходимости глобального устойчивого развития, такое уплотнение социальных связей, увеличение сознания взаимозависимости всех людей на планете и самой жизни как био-социального феномена от активности всех людей является необходимым, простым условием выживания. Однако, разумеется, сложнейший процесс глобализации изобилует глубокими противоречиями, повсеместно порождает ощущение «локального без границ, глобального без места» [18, с. 283]. Поэтому закономерно во втором десятилетии ХХІ в. все определеннее проявляется тенденция этноренессанса, разрастается воля каждого народа быть, развивается самоуважение народов, что не всегда гармонично сочетается с пониманием-ощущением неизбежной связности, взаимозависимости с другими народами.
Роль интеллигенции в этом процессе существенно отличается от той, которую она играла в ХІХ в., когда выступала инициатором процесса развития национального самосознания. Сегодня, когда из почвы прошлых обид вновь – как и сто, и семьдесят лет назад – вырастают идеологии национальной исключительности, задачей интеллигенции является удержание и развитие в мире отношений партнерских и недопущения перехода от этих отношений к отношениям конфронтации.
Ведь еще недавно как достижение начала ХХІ в. рассматривалось движение к созданию глобального сообщества ученых, в котором реализуется свобода «от националистических ограничений» и групповых лояльностей [8, с. 134] совместно работающих в национальных культурах и одновременно в мировой культуре акторов. Разумеется, нельзя – да и не нужно – жить в обществе и быть от него полностью свободным. Однако в условиях глобализации, в мире, объединенном коммуникацией благодаря Интернету, новые поколения интеллигенции с неизбежностью все в большей степени расширяют свои связи со всем миром, впитывая и развивая ощущение единства человеческого рода. Это ощущение единства не произвольно. Оно является реальным и позитивным плодом глобализации. Уплотнение сетей коммуникации, непосредственных и углубляющихся контактов людей делает международную конфронтацию все более неприемлемой, а альтернативную конфронтации стратегию взаимодействия – партнерство – превращает в практически атрибутивную, необходимую для совместного выживания стратегию действий.
К наиболее существенным принципам партнерства следует отнести: сознательное участие партнеров во взаимодействии; принятие на себя части общей работы на основе выработанного представления о предстоящей работе как целом (преодоление инерционного отчуждения); осознанное отношение к хронотопу, учет предыстории общих действий, предыдущей части уже сделанной работы и роли в ней своей и других партнеров; формирование отношений как диалоговых, взаимная готовность к признанию аргументированной позиции партнера, к корректировке своей позиции; формирование негативной оценки эгоизма, зависти и недоверия, позитивной оценки взаимной поддержки и доверия.
Разумеется, партнерство как способ взаимодействия с другими глубоко связано со способом самопознания и самоопределения социального субъекта, его самоидентификацией – в настоящем и прошлом. В России в поиске национальной идентичности неизменно воспроизводилась оппозиция образов Запада и Востока, что отражается в споре западников и славянофилов – споре, как можно вспомнить, чрезвычайно горячем, порой даже перенасыщенном эмоциями.
Западники ХIХ в. выступали за «европейский путь развития», за продолжение «петровской линии реформ», за отмену крепостного права и самодержавия, за развитие демократии, либеральной политики государства. Сегодняшние продолжатели этой линии – последовательные демократы.
Славянофилы, в свою очередь, выступали за самобытность, заключенную в «глубоких пространствах России». Не случайно основоположники и лидеры этого направления общественной мысли – братья Аксаковы – родились в Уфе, на восточной границе Европы. В их позиции отражена идея особости России, нередко доходящая до призыва к ее обособленности. При этом, что интересно отметить, славянофилы не назвали себя «восточниками». Хотя формально логично было бы именно так назвать оппозицию западникам. Существенно важным для выбранного самоопределения является включение главной созидательной эмоции – любви: славянофилы буквально – любящие славян.
В споре западников и славянофилов отражается также внутриинтел-лигентский конфликт рациональности и эмоциональности. Прозападно настроенные интеллектуалы критически определяли-обзывали интеллигентов-славянофилов «чувствилищем». Правда и сами критики эмоциональности защитников особой миссии славян, начиная с П.Я. Чаадаева, были в спорах предельно эмоциональны и чаще всего не удерживались в границах «умеренности и аккуратности» теоретического рационализма и практического либерализма, проявляя вполне отечественный максимализм. Как показывает Ю.М. Лотман, западники, считая европейский путь более передовым, утверждали, что Россия пойдет по нему быстрее и дальше, чем Запад, «догонит и перегонит» его [10].
Каждая из двух интеллигентских группировок не первый век настаивает на выборе в пользу своей модели. Однако огромная евразийская страна не может и не стремится реализовать такой выбор. Страна вмещает все разнообразие тенденций развития и образует сложноорганизованное географическое и социокультурное пространство, реализует в своем развитии специфический, только ей свойственный способ совершенствования данного пространства. Цель этого совершенствования подобна тем, которую ставят перед собою другие народы и страны – это движение ко все более качественной социальной жизни. И в каждом обществе данный процесс производен, опосредованно – через специфическую культуру – выводится из качеств, присущих первооснове социальной жизни – из ее географической, биологической заданности. Особенностью России является уникальное богатство и разнообразие природы. Но нельзя забывать, что если не по разнообразию, то по уникальности природной основы социальная жизнь в любой стране не уступит российской.
Отечественная же история показывает, что баланс европейской и азиатской составляющих – географический, биологический, социальный – является условием стабильности России. А потому самосознание российской культуры определяется как евразийское, т.е. целиком, в каждой своей точке одновременно и европейское и азиатское. Как совмещающее самосознание.
При этом в развитии российской интеллигенции - отражающем развитие российского общества и мира в целом - не редко воспроизводилась установка на конфронтацию. Так, один из основных предшественников теории евразийства Н.Я. Данилевский предложил воспринимать Россию как анти-Европу, а руководящим принципом внешней политики России сделать русско-славянский эгоизм, и на этой основе осуществлять миссию России - объединение славянских народов, кристаллизацию славянского мира.
Важным обстоятельством, которое необходимо учитывать при анализе идейно-философской концепции евразийства, является то, что она складывается в 20-е гг. ХХ в. в среде русских эмигрантов. Интеллигенцию порой определяют как такую группу, которая в условиях диктатуры возглавляет «черные списки» режима. Это определение вполне подходит основателям евразийства. И при этом в основе формирования идеи евразийства, несомненно, лежит чувство гражданской ответственности ее создателей - ответственности не за все человечество, но за свой народ, свое Отечество, за его судьбу в условиях, когда послереволюционная Россия оказалась практически в изоляции. Это может выглядеть парадоксальным, поскольку речь идет об эмигрантах, фактически вынужденно покинувших свою страну. Став «людьми мира», евразийцы заняли позицию предельно близкую к националистической. И одновременно, вероятно, именно эта экстремальность позиции патриотов-эмигрантов обусловила содержание в концепции той жестко конфликтной стратегии взаимодействия с миром, которая впоследствии и привела к распаду евразийцев как сообщества.
Живя в относительной безопасности от советского режима, создатели евразийства практически поэтизировали в своей концепции образы «человека с коллективным характером» или «симфонической личности» (Л. Карсавин) и исключительной геополитической роли России.
Евразийцы осуществили глубокий критический анализ европейской идеи универсального прогресса. Особенно убедителен в данной критике Н.С. Трубецкой, знаменитое эссе «Вавилонская башня и смешение языков» которого фактически заложило основы методологии анализа культурной разнородности: «Священное Писание рисует нам человечество, говорящее на одном языке, т.е. лингвистически и культурно вполне однородное. И оказывается, что эта единая общечеловеческая, лишенная всякого индивидуального, национального признака культура чрезвычайно односторонняя: при громадном развитии науки и техники (на что указывает самая возможность замысла стройки!) полная духовная бессодержательность и нравственное одичание. А вследствие этих свойств культуры – непомерное развитие самодовольства и гордыни, воплощением чего является безбожный и в то же время бессмысленный замысел постройки вавилонской башни» [17, с. 328]. Поэтому, как утверждает Трубецкой, закон национального дробления и множественности национальных языков и культур, позволяющий в будущем преодолевать претензии «самовозносящейся техники», устанавливается навечно.
Однако выведенная Трубецким аксиома – «только национально ограниченные культуры могут быть свободными от духа пустой человеческой гордыни» [17, с. 329] – привела самих евразийцев к катастрофе. Даже соглашаясь с тем, что «Если представить себе культуру, творцом и носителем которой является все человечество, то ясно, что безличность и расплывчатость в такой культуре должны быть максимальными» [17, с. 329], невозможно согласиться с тем, что национальная ограниченность может служить спасительной стратегией развития общества.
Это убедительно доказывает не только опыт всей отечественной истории, но и теория диалога культур, создаваемая М.М. Бахтиным примерно в это же время, только не на Западе, а в самой России, непосредственно в условиях усугубляющегося тоталитаризма. Без теории диалога культур невозможен теоретический анализ перспектив развития партнерства на глобальном уровне.
Как показывает Бахтин, диалог создает открытое пространство оформления смысла явлений через взаимное совмещение, сопоставление смыслов, оценок, правд, существующих внутри каждой культуры. Правда, исторически диалог существовал внутри пространства для немногих – на горе в физическом смысле (на древнегреческой агоре), среди элиты общества – в смысле социально-политическом. «Не геометр да не войдет» гласила надпись над входом в Академию Платона. Только среди равных присутствует стремление к пониманию. И именно «понимание всегда диалогично» [3, с. 290]. По отношению к иным (не равным) возникает скорее стремление к объяснению: «При объяснении – только одно сознание, один субъект; при понимании – два сознания, два субъекта» [3, с. 289].
Между тем, равенство народов отнюдь не было установкой, определявшей развитие отношений в истории человечества. Во всей истории. Но если говорить только о Новом времени, о реализованных в нем за- падном и российском проектах «освоения мира», то они отнюдь не были реализованы на основе диалога культур. На практике российский – евразийский – проект «освоения мира на восток» был, разумеется, чрезвычайно сложен по своим причинам. В становлении России как евразийской целостности реализовалось множество сил и интенций, в том числе чаще всего в той или иной мере проявленное внутреннее стремление присоединяющихся – присоединенных народов стать частью этой целостности (нередко обусловленное нежеланием становиться частью другой, скажем, китайской целостности, как в случае с Алтаем). Однако присутствие и действие этих многообразных сил не меняет того факта, что результат реализации данного проекта был далек от идеального типа взаимодействия народов и их культур. В Российской империи он конструировал иерархическую асимметрию доминирующей культуры и культур «инородцев». Разумеется, иерархическую асимметрию создавал и западный проект «освоения мира», в котором антропологическое, социологическое знание становилось инструментом власти, знание о способе мышления «чужого», о его традициях и системе ценностей позволяло установить над ним господство1. Любопытство, стремление изучить «чужого» отнюдь не означало и даже не предполагало еще признания равноправной позиции объекта познания. Это видно в истории конфессионального освоения Нового света, которая, как показал Т. Тодоров, вполне последовательно вписывается в общий проект [20, с. 168–184]. Об этом же свидетельствует и логика востребованности выводов социологических, антропологических исследований Б. Малиновского не у себя на родине, а в Англии – метрополии огромной империи.
Сегодня практически во всех странах мира возрастает противодействие размыванию социокультурных определенностей. Глобальное сообщество ищет такие пути преодоления развития на моно-цивилизационных основаниях, которые позволяли бы расцветать социокультурной разнородности и, одновременно, не вели бы в будущем к «столкновению цивилизаций», так устрашающе-убедительно описан- ному С. Хантингтоном. В этой ситуации концепция евразийства переживает в России ренессанс. Ключевое понятие, возникшее как название данной концепции, все чаще используется на государственном уровне, употребляется для идентификации геополитической стратегии Российского государства. Президент РФ В.В. Путин пишет об этой стратегии: «Мы ставим перед собой амбициозную задачу: выйти на следующий, более высокий уровень интеграции — к Евразийскому союзу», который будет «учитывать опыт ЕС и других региональных объединений» [16]. Упреждением реакции западного мира звучит уточнение: «Речь не идет о том, чтобы в том или ином виде воссоздать СССР». Евразийский союз предлагается рассматривать как один из «интеграционных кирпичиков» (подобный ЕС, НАФТА, АТЭС, АСЕАН и другим), из которых может сложиться более устойчивый мировой порядок.
То есть в государственной стратегии понятие евразийства представлено очищенным от того конфронтационного – по отношению к Западу – смысла, который присутствовал (и все еще присутствует) в изложении концепции евразийства от Данилевского до Зиновьева.
Однако, когда этот же концепт используется не в высказываниях Президента РФ, его конфронтационный потенциал оказывается отнюдь не изжитым. Так, в программе политической партии «Евразия» как базовый формулируется «категорический императив антиглобализма», требующий противодействия «однополярной глобализации и отстаивания многополярной модели» мира, содержится призыв к «битве за молодежь», формированию «новых евразийских поколений», которым «предстоит возродить Традицию, восстановить оборванную связь времени и эпох, над разрывом которой, к несчастью, немало потрудились отцы и деды» [15].
Эта «битва за молодежь» не может не влиять на состояние молодежного сознания. Не удивительно, поэтому, что на официальном сайте «Евразийского союза молодежи» находятся откровенно националистические девизы и рассуждения «О вреде антифашизма», а печатный орган Евразийского союза молодежи – это газета «Евразийское вторжение».
Таким образом, в современном российском общественном сознании и в практиках воспроизводится весь спектр возможных интерпретаций евразийства – от концепции корректно сформулированной и не противоречащей в провозглашаемых целях и ценностях нормам социальной устойчивости и глобального мира до концепции, мотивирующей развитие конфронтации России с миром, призывающей к действиям, прово- цирующим ксенофобию, отнюдь не приемлемым в цивилизованном обществе в ХХІ в.
Е.Л. Омельченко, опираясь на данные мониторингов общественного мнения и анализ реальных событий, фиксирует «неуклонный рост ксе-нофобных настроений во всех слоях российского общества, реальных экстремистских практик (разборок, драк, убийств), совершаемых на почве национальной и расовой розни», что, как показывают исследования, глубоко связано с постсоветским комплексом национальной неполноценности в молодежной среде, попытками его компенсировать.
Хотя рост ксенофобии фиксируется в настоящее время и в Европе. Фактически, этот современный процесс на практике подтверждает теоретический вывод, сделанный Х. Аренд полвека назад – о том, что мировая цивилизация может порождать варварство из себя самой [1]. Автор ставшего классическим анализа тоталитаризма приводит нас, в конечном счете, к пониманию того, что наряду с радикальным злом, воспроизводимым в условиях тоталитаризма, существует более опасное зло, не зависящее от политической идеологии. Это зло воспроизводится «человеком массы», который не испытывает сожаления и может забыть о содеянном вследствие ощущения себя элементом «общего движения в правильном направлении», общей воли. Как главную черту человека массы Аренд определяет не жестокость или отсталость, а недостаточную развитость глубоких социальных связей, полноценной социокультурной коммуникации.
Именно сегодня и именно в расширяющейся среде интеллигенции – мастера по воспроизводству человеческих отношений это устрашающее омассовление преодолевается, должно быть преодолено на основе установления оптимального баланса между публичностью и приватностью.
«Ксенофобные настроения, – пишет Омельченко, – могут подпитываться стремлением к самоуважению... Для молодежного возраста (впрочем, вероятно, и не только для него), идея и система ее доказательств, в какой бы форме они не выражались, много важнее и значимей материальных благ. Пусть это звучит парадоксально. Но сегодня именно тот завоевывает внимание молодежи, кто может предложить ИДЕЮ. В этом контексте патриотизм и национализм, замешанные на ксенофобии, остаются вне конкуренции» [13].
В этом контексте важнейшей и чрезвычайно трудной задачей интеллигенции становится разделение, отделение необходимого как элемент национального духовного здоровья патриотизма от болезни национализма, борьба с разносчиками этой болезни – бациллами ксенофобии. А между тем именно сегодня в академической среде вместо решения этой задачи приходится наталкиваться на утверждение: «Нет диалога культур, есть война культур» (при этом нельзя не видеть, что «война культур» есть оксюморон). И это в ситуации, когда мир все больше зависит от интеллигенции, от того, насколько интеллигентская установка априорной доброжелательности, полного неприятия насилия станет установкой всего общества, каждого его члена – и особенно молодежи.
Само изменение влиятельности концепции евразийства в массовом сознании показывает, что концепция эта может послужить знаменем конфронтационного движения (разумеется, губительного для всех сторон конфронтации), но может – будучи избавлена от элемента враждебного отношения к «иным» – вести к укреплению национального самоуважения вместе с расширением уважения «иных», может способствовать разворачиванию движения к тому состоянию общества, которое критик Данилевского Вл. Соловьев называл «положительным всеединством».
Выбор второго варианта развития концепции евразийства требовал бы от интеллигенции постоянной интенсивной работы. Самой очевидной и актуальной частью данной работы является очищение языка с учетом «внешнего резонанса», переход на новый уровень самоконтроля в языке, целью которого является исключение провоцирования фобий. Ответственное использование главной символической системы культуры – языка – является существеннейшим элементом движения к стратегической осознанности действий социальных субъектов, к исключению конфронтации и насилия. Это тем более важно, что сегодня, в мире высоких технологий практически любое (в любой, даже самой камерной ситуации) использование языка становится публичным, а следовательно необходимо методично исключать из языка, а следом и из практик – проявления ксенофобии, формирующие образ врага, образы врагов.
Язык – это дом бытия, а дом – это гармонизированное, освоенное внутреннее пространство. Совершенствование языка, его использования само создает возможность неагрессивного самоопределения, выработки и описания «своей правды» – без втягивания в дискуссию огромных, по-прежнему устрашающих, хоть никого и не убеждающих, практически превращающихся в социальный рудимент военных силовых систем государств.
В собственно культуре развивается не отношение противостояния другой системе ценностей, а отношение диалоговое – сопоставляющее, которое одновременно позволяет углубить самопонимание, усовершенствовать систему внутренней сбалансированности. Несхожесть культур при этом не исчезает. Она сохраняется как важнейший момент самосознания культуры. Именно при сопоставлении с другой культурой, другими культурами культура наиболее полно сознает себя, систематизируется и углубляется. Стоит еще раз вспомнить мысль М.М. Бахтина – культура развивается на своих границах – чтобы избавиться от искушения расширения границ собственной культуры, собственной правды до безграничности. Ситуация диалога стимулирует выстраивание того монолога, с которым коллективный социокультурный субъект – национальное, супер-национальное общество – входит во взаимодействие с другими субъектами, имеющими собственное монологическое высказывание, собственную позицию.
Именно такая работа интеллигенции ХХІ в. по развитию концепции евразийства, в которой проявляется национальная «монологическая» определенность и одновременно сохраняется открытость на диалог с другими – не евразийскими – культурами может соответствовать тому, что Х. Аренд определила как плодовитость труда, противопоставив ее мнимой производительности [1, с. 130]. «Мнимая производительность» увеличивает внутреннюю эффективность и при этом во-вне создает конфликт, а достойным плодом труда развития отношений народов является обеспечение возможности партнерства.
Главной проблемой в конструировании партнерства является проблема организации пространства контакта. Партнерство может состояться только при создании специфического социокультурного пространства, обеспечивающего одновременно дистанцированность и связность участников контакта, их эффективное взаимодействие при сохранении автономии и самотождественности каждого партнера. Конструирование партнерства как работа интеллигенции предполагает одновременное проявление коллективного национального сознания «мы-народ» и выработку путей гармоничного включения своей общности в коллективное «мы-человечество».
«Качества вещей устанавливаются людьми в виде закона» (Демокрит) – как актуально, так и за счет выбора будущего, как показывает теорема Томаса. Процедура «установки качества вещи» фактически включает «установку» на перспективу ее развития, определяет ее будущее. Задача интеллигенции – разработка и распространение образа «предельных условий человеческого существования» сегодня и в будущем [11, с. 48-49], обобщенных черт «целевого» состояния общественной жизни: как доброго, а не злого; упорядоченного, а не хаотичного; состояния мира, направленного на создание условий, в которых каждый человек имеет максимально возможные условия для развития своего социокультурного потенциала, в котором расцветают разум, добро и красота, а не происходят войны, в которых они уничтожаются.
И если задача российской интеллигенции сегодня – поддержать в общественном сознании убеждение в том, что Россия обладает ценнейшим опытом объединения и сосуществования различных по вере, культуре, истории, общественному развитию этносов (Л.Н. Гумилев) и что Россия – это явление в мировой истории и культуре (А. Зиновьев), то, одновременно и в не меньшей степени задачей российской интеллигенции является расширение в отечественном общественном сознании представлений о том, что и иные народы – явления мировой истории и культуры, и их опыт имеет столь же непреходящее значение и ценность для мира в целом.
Список литературы Евразийство и партнерство интеллигенции в ХХІ в
- Аренд X. Жизнь ума / пер. А.В. Говорунова - СПб.: Наука, 2013.
- Аренд X. Vita activa или о деятельной жизни / пер. с нем. и англ. В.В. Бибихина - СПб.: Алетейя, 2000.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М.: Xудожественная литература, 1979.
- Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. - М., 1990. - 224 с.
- Внук-Липиньский Э. Социология публичной жизни. - М., 2012.