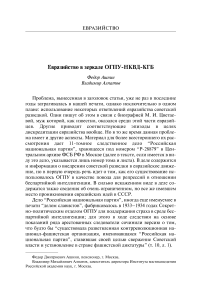Евразийство в зеркале ОГПУ-НКВД-КГБ
Автор: Ашнин Федор Дмитриевич, Алпатов Владимир Михайлович
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Евразийство
Статья в выпуске: 2, 1996 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14911673
IDR: 14911673
Текст статьи Евразийство в зеркале ОГПУ-НКВД-КГБ
По основному московскому делу проходили 34 человека, еще более 60 человек были осуждены по параллельным делам в Ленинграде, Харькове, Краснодаре, Смоленске, Ярославле; вся совокупность этих дел должна была свидетельствовать о “разветвленности организации”. Среди пострадавших немало известных ученых и специалистов: академики М. Н. Сперанский и В. Н. Перетц 1, члены-корреспонденты АН СССР Н. Н. Дурново, Г. А. Ильинский, А. М. Селищев, будущие академики В. В. Виноградов и Г. А. Разуваев, а также Н. П. Сычев, П. Д. Барановский, К. В. Квитка, В. Н. Сидоров, Г. А. Бонч-Осмо-ловский, Ф. И. Шмит, П. И. Нерадовский, Б. Л. Личков и др. Но подключили к делу и рядовых агрономов, инженеров, врачей и просто “бывших”, наличие которых среди осужденных должно было свидетельствовать о “массовости организации”; в частности, в дело включили членов собиравшегося в начале 30-х годов на частных квартирах кружка любителей русской архитектуры во главе с А. В. Григорьевым; этот кружок превратился в “террористическую группу партии”. Среди прочих в дело включили В. С. Трубецкого, брата виднейшего идеолога евразийства Н. С. Трубецкого, его дочь Варвару и жениха Варвары, Андрея Дурново (сына Н. Н. Дурново) 2.
Фабрикация дела началась с сентября 1933 года, но до декабря в его материалах нет речи о евразийстве; на этом этапе арестованные, давая показания об участии в “контрреволюционной организации” (название “Российская национальная партия” тогда еще изобретено не было), не говорили ничего определенного о зарубежных связях. Новый поворот в сочинении дела начался с 21 декабря после допроса некоего Михаила Наумовича Скачкова. Отметим, что этот допрос, так же как позднее допросы А. Н. Дурново, вел заместитель начальника Секретно-политического отдела ОГПУ Г. С. Люшков, им же визировано обвинительное заключение. По-видимому, это был наиболее высокий по рангу из сотрудников ОГПУ, непосредственно занимавшихся данным делом, и его роль в нем была значительной. Нельзя здесь не вспомнить об иронии истории: сотрудники ОГПУ неожиданно оказались правы, заявляя о том, что в деле участвовали “террористы”, связанные с “заграничными интервенционистскими кругами”. Только искали их не там: 13 июня 1938 года Г. С. Люшков, к тому времени начальник Управления НКВД по Дальневосточному краю, перешел границу и сдался японцам. Затем, если верить книге японского журналиста Ё. Хияма “Планы покушения на Сталина”, он передал японской стороне важные секреты о вооружении и агентурной сети на Дальнем Востоке, после чего возглавил группу из русских эмигрантов, пытавшуюся в начале 1939 года совершить покушение на Сталина. Эта попытка не удалась, а сам Люшков был уничтожен своими новыми хозяевами в дни капитуляции Японии в 1945 году 3.
М. Н. Скачков, арестованный незадолго до декабря 1933 года, проходил по другому делу, но его показания были активно использованы в деле “Российская национальная партия”. В прошлом белогвардейский офицер, он в 20-е годы жил в Чехословакии, затем вернулся на родину. Видимо, он был связан с советской разведкой. В Чехословакии он познакомился с Н. Н. Дурново, который жил там в 1924–1928 годах. Скачков на следствии заявил: “Уже тогда мне стали ясны резко антисоветские позиции Дурново. Он обратил на себя внимание тем, что ел демонстративно где только возможно белый хлеб, ссылаясь на голод в Советской России и на тяжелое положение в ней ученых... В 1933 году в марте месяце я возобновил в Москве знакомство с Дурново Н. Н., а через него познакомился с его сыном Андреем, ярым националистом, резко антисоветски настроенным человеком. С ним я поддерживал контакты в проводимой мною контрреволюционной работе” (т. 4, л. 151–152). Из допроса и других материалов дела видно, что А. Дурново на свою и отца беду был излишне разговорчив со Скачковым, ввел его в круг своих друзей и рассказал, кроме всего прочего, о своем увлечении евразийством. Скачков назвал следователям ряд фамилий людей, составлявших окружение обоих Дурново. Большинство из них потом арестовали.
Для начала надо было арестовать отца и сына Дурново, что и осуществили в ночь на 28 декабря. Люшков и его подчиненные довольно быстро выбили у них нужные показания. Н. Н. Дурново затем стал центральной фигурой в фабрикуемом деле, дальнейшие аресты в январе-феврале 1934 года производились почти исключительно по признаку знакомства с ним или с его сыном.
Лишь с привлечением к делу Н. Н. Дурново стало возможным использовать наряду с другими пунктами 58-й статьи Уголовного кодекса РСФСР и пункт 58/4 — “связь с закордоном”. В Праге ученый постоянно общался с “самым талантливым из учеников”, как он сам говорил, выдающимся лингвистом и литературоведом Р. О. Якобсоном, жившим там постоянно; Якобсон как мог помогал учителю, которому так и не удалось устроиться в Чехословакии (это послужило причиной возвращения Н. Н. Дурново в СССР наряду с тем, что к нему не отпустили семью). Якобсон связал Н. Н. Дурново со своим старшим другом Н. С. Трубецким, жившим в Вене; между Дурново и Трубецким, ранее малознакомыми, установились хорошие научные и человеческие контакты, несколько раз они встречались в Праге, Брно и Вене. Обо всем этом свидетельствуют не только показания арестованного Н. Н. Дурново, включая наиболее искреннюю его “Исповедь”, речь о которой ниже, но и упоминания о Дурново в изданной переписке Трубецкого с Якобсоном 4 и изданные недавно в США письма Якобсона и Трубецкого к Дурново 5. Вполне достоверно и то, что в
1931 году Якобсон посылал Н. Н. Дурново уже в Москву деньги и письмо через сотрудника чехословацкой миссии в Москве Ванека.
Однако в материалах следствия все эти реальные факты получили фантастическую интерпретацию, подкрепленную выбитыми у Н. Н. Дурново “признаниями”. В обвинительном заключении “вина” ученого формулировалась, в частности, так: “Был связан с руководителями русско-национал-фашистского центра за границей — князем Трубецким Н. С. и Якобсоном, от которых получал директивные указания по работе националистических организаций в СССР... Поддерживал связь с Чехословацкой миссией в Москве и через нее осуществлял связи с Якобсоном, информируя его о политическом положении в Советском Союзе” (т. 10, л. 16–17).
Среди других пунктов обвинения есть и такой: “За время своего приезда из заграницы привез полученную им от Трубецкого Н. С. нелегальную евразийскую литературу, в частности сборник Трубецкого “К проблеме русского самопознания”. Распространял и популяризировал этот сборник среди участников организации и лиц, намеченных в вербовке” (т. 10, л. 16).
Если отвлечься от слов “организация” и “вербовка”, то этот пункт обвинения в отличие от некоторых других соответствовал реальности: три изданные за рубежом книги Н. С. Трубецкого, в том числе его главный евразийский труд “К проблеме русского самопознания”, были изъяты при обыске в квартире Н. Н. Дурново и приобщены к делу как “вещественные доказательства”. Жена В. В. Виноградова спустя более чем полвека вспоминала, как ей удалось уничтожить подаренную Н. Н. Дурново книгу Н. С. Трубецкого, не замеченную при обыске 6. Н. Н. Дурново привез на родину книги и оттиски, подаренные ему Трубецким. О книге “К проблеме русского самопознания” он на одном из допросов говорил: “Привез я ее вплетенной в том специальных статей Трубецкого, чтобы избежать изъятия на границе” (т. 7, л. 384).
Сам Н. Н. Дурново, как мы еще увидим, в целом не принял историко-культурные идеи Н. С. Трубецкого (в отличие от его лингвистических идей). Однако его сын, в Чехословакии не бывавший и лично с Трубецким не знакомый, оказался горячим поклонником идей дяди своей невесты (он на следствии называл ее женой). Этот 23-летний начинающий славист (к сожалению, почти ничего, кроме четырех статей по сербской литературе в “Литературной энциклопедии”, не успевший написать) может быть назван одним из немногих советских евразийцев. Идеи Н. С. Трубецкого он выписывал в записную книжку под названием “Мысли для себя”, также отобранную при обыске. Эта книжка послужила важным материалом для следствия, целые кус- ки из нее вписывались в показания А. Дурново и других подследственных.
Особенно показателен допрос А. Дурново от 23 января 1934 года, опять проводившийся лично Люшковым вместе с его помощником Каганом. Молодой ученый, если верить протоколу, заявил следующее:
“На основе этих документов (трудов Н. С. Трубецкого. — Ф.А., В.А.) я развивал идею русского национального самосознания, доказывая, что, отталкиваясь только от национального (а не классового), можно подойти к разрешению наших задач. При обсуждении вопроса о национальном начале и национализме мы исходили из положения необходимости восстановления истинного, изолированного, кристаллического национализма, без всякой примеси и влияния извне. Стоял вопрос таким образом, что в основу этого истинного национализма кладется принцип самобытной национальной культуры и нравов. Сохранение этих принципов и истинный национализм на их основе обеспечивало, по нашему мнению, сохранение чистоты славянской расы, ее превосходства и исторического будущего... Рассматривая большевизм как строй, возникший в России только лишь благодаря отсутствию истинного национализма, мы придерживались положения, что развитие большевизма ведет к дальнейшему уничтожению остатков национализма и господству европейских форм общественного развития. С этой точки зрения мы поддерживали тезис Н. С. Трубецкого о том, что “большевизм есть такой же плод двухсотлетнего романо-германского ига, как московская государственность была плодом татарского ига”, и его заключение о большей опасности большевизма для русской нации. Таким образом, эти труды Трубецкого были положены в основу программно-политических установок организации, о которых я давал показания 7/1. Непосредственно возникал вопрос о тактике организации. В основу этой тактики были положены утверждения Трубецкого о том, что “мысль о самобытной национальной культуре должна руководить всеми действиями истинного националиста. Ее он отстаивает, за нее он борется. Все, что может ей способствовать, он должен поддерживать, все, что может ей помешать, он должен устранять” (т. 4, л. 251–252).
Не знаем, что в этом тексте принадлежит А. Дурново, а что Люш-кову с Каганом. Но видно, как реальные идеи Н. С. Трубецкого адаптируются применительно к целям следствия. Цитаты из его сочинения приведены верно (ясно, что А. Дурново не мог их цитировать по памяти, они взяты из “Мыслей для себя”). Действительно, Трубецкой писал и о русском самосознании, и об истинном национализме; в принципе верно, хотя и односторонне передана и оценка им большевизма. Но “сохранение чистоты славянской расы” — уже искажение:
Трубецкой как раз подчеркивал евразийский, а не славянский характер России, а к панславизму относился отрицательно, тем более он не был расистом. Однако следствию важно было подчеркнуть “фашистский” характер “организации”. Напомним, что прошел лишь год после прихода фашистов к власти в Германии, до пакта 1939 года было еще далеко. Гитлер, уже разгромивший компартию, оценивался тогда в СССР однозначно отрицательно. Сейчас хорошо известно, что Н. С. Трубецкой не принимал фашизма. Но в деле и он, и Р. О. Якобсон (еврей!) постоянно именуются “фашистами”. А мирные слова Трубецкого о борьбе за национальную культуру и устранении того, что ей мешает, перенесенные в иной контекст, оказывались “основой тактики организации”. Тот же А. Дурново показывал о “подготовке боевых кадров в городе и деревне как базы будущих штурмовых отрядов” (т. 4, л. 242); впрочем, ничего конкретного о таких отрядах сочинить не удалось.
В обвинительном заключении следственная интерпретация евразийства приняла такой вид: “В основу программных установок организации были положены идеи, выдвинутые лидером фашистского движения за границей — князем Н. С. Трубецким.
Сущность их сводилась к следующему.
-
1) Примат нации над классом. Свержение диктатуры пролетариата и установление национального правительства.
-
2) Истинный национализм, а отсюда борьба за сохранение самобытной русской культуры, нравов, быта и исторических традиций русского народа.
-
3) Сохранение религии как силы, способствующей подъему русского национального духа 7.
-
4) Превосходство “славянской расы”, а отсюда — пропаганда исключительного исторического будущего славян как единого народа (т. 10, л. 3).
Здесь хорошо видна все та же “двухслойность” подхода к евразийству. Вторая половина первого пункта и четвертый пункт — явная ложь, остальное действительно проповедовалось Н. С. Трубецким, хотя видеть в этом состав преступления могло лишь искаженное сознание тех лет. Уже в 1941 году Сталин будет вынужден явно или неявно заимствовать многое из взглядов Н. С. Трубецкого.
Материалы дела дают некоторую информацию и о том, какую известность имели евразийские идеи среди московской гуманитарной интеллигенции. Вопрос об истинности такой информации, правда, сложен, поскольку в большинстве она содержится в показаниях подследственных, полученных под давлением, иногда в прямом смысле под дулом пистолета. Однако надо учесть, что тогда в ОГПУ работали “профессионалы”, предпочитавшие стопроцентной лжи полуправду
(что мы видели и на примере интерпретации евразийства): вымыслы о “подготовке свержения Советской власти” и “штурмовых отрядах” помещались в контекст реальных встреч, знакомств и разговоров. К тому же частично данная информация подтверждается свидетельствами, появившимися в иных условиях: искренней “Исповедью” Н. Н. Дурново, показаниями, данными уцелевшими при пересмотре дела в 1963–1964 годах, позднейшими воспоминаниями.
Если верить всему этому, то оказывается, что “К проблеме русского самопознания” и другие сочинения евразийцев, несмотря на запреты, были известны кое-кому из московских и ленинградских интеллигентов. Одним из распространителей этих идей был, как уже говорилось, Н. Н. Дурново. Например, крупнейший украинский музыковед К. В. Квитка (муж Леси Украинки) пострадал по этому делу лишь за то, что в конце 1933 года брал у Н. Н. Дурново упомянутую книгу Н. С. Трубецкого. В “Исповеди” Н. Н. Дурново писал: “Эпизод с передачей Квитке книги Трубецкого происходил так, как рассказывал в своих показаниях Квитка. Я сначала не хотел давать ему книги Трубецкого и дал только тогда, когда убедился (пока он, сидя у меня, делал из нее выписки), что его во всей книге интересовал только эпизод о туранских элементах в русской и украинской народной музыке (песне)” 8. Если верить данным дела, Н. Н. Дурново знакомил с трудами Н. С. Трубецкого также В. В. Виноградова, В. Н. Свиридова, В. С. Трубецкого и, конечно, своего сына. Через самого Н. Н. Дурново или кого-либо из перечисленных выше с ними, как указано в деле, ознакомились и некоторые ученые, избежавшие ареста: Н. К. Гудзий, М. И. Корнеева-Петрулан, Р. И. Аванесов.
Пропагандировал идеи евразийства и Андрей Дурново. В связи с этим попал в дело его знакомый по Книжной палате В. И. Шишов, у которого при аресте были отобраны эмигрантские книги, а также “рукописи с изображением свастики и двуглавым орлом” (т. 1, л. 119). Вокруг Андрея Дурново группировался кружок молодежи из аристократических семей, куда помимо Варвары Трубецкой входили Сергей Голицын (автор известных “Записок уцелевшего”), Ольга Урусова, Алексей Бобринский, Игорь Верховский (сын военного министра Временного правительства) и др. Внедрился в этот кружок и М. Н. Скачков. В компании молодых аристократов обсуждались проблемы евразийства. Следствие поначалу проявило к ней интерес, но потом эта линия ушла в сторону: Верховского и Урусову арестовали, но почему-то выпустили, и в дело они не попали.
Список литературы Евразийство в зеркале ОГПУ-НКВД-КГБ
- Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М. Николай Николаевич Дурново//Известия РАН. Серия литературы и языка, 1993. № 4.
- Бернштейн С. Б. Трагическая страница из истории славянской филологии//Советское славяноведение, 1989. № 1
- Горяинов А. Н. Славяноведы -жертвы репрессий 1920-1940-х годов: некоторые неизвестные страницы из истории советской науки//Советское славяноведение, 1990. № 2
- Робинсон М. А., Петровский Л. П. Н. Н. Дурново и Н. С. Трубецкой: проблема евразийства в контексте дела славистов (по материалам ОГПУ-НКВД)//Славяноведение, 1992. № 4
- Катунцев В., Кон И. Инцидент. Подоплека хасанских событий//Родина, 1991. № 6-7;
- Российская газета, 1993, 24 августа.
- N. S. Trubetskoy's Letters and Notes. The Hague-Paris, 1975.
- Toman J. (ed.). Letters of Russian Linguists. Ann Arbor, 1993.
- Малышева-Виноградова Н. М. Страницы жизни В. В. Виноградова//Русская речь, 1989. № 4.
- Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана (взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока)//Вестник Московского университета. Серия 9. Филология, 1991. № 4. С. 67-71.
- Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М. Дело славистов: 30-е годы. М., 1994;