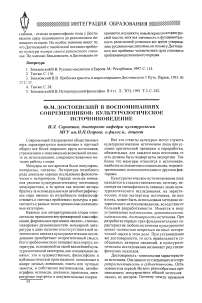Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: культурологическое источниковедение
Автор: Сиротина И.Л.
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Достоевский и православие
Статья в выпуске: 1 (21), 2001 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/147135434
IDR: 147135434
Текст статьи Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: культурологическое источниковедение
Современный этап развития общественных наук характеризуется вовлечением в научный оборот все более широкого круга источников, стремлением к максимально возможной полноте их использования, совершенствованием методик работы с ними.
Мемуары во все времена были популярны, интересны, читаемы. Литература подобного рода довольно хорошо исследована филологически и исторически. Гораздо меньше внимания уделено культурологическому потенциалу мемуаристики, в то время как многие авторы брались за исповедальное или автобиографическое перо именно из потребности пофилософствовать о «вечных проблемах» культуры и рассмотреть с разных точек зрения смысложизненные категории.
Важные для литературоведов споры относительно принципов внутрижанровой классификации, формальных признаков «видов», «типов», «жанровых разновидностей» мемуарной литературы и даже наличия или отсутствия в ней эстетического начала в культурологическом исследовании приобретают второстепенный смысл. В его проблемное поле попадает весь корпус литературы, основанной на такой важнейшей культурологической категории, как «социальная память»: это и художественные, философские и публицистические произведения, написанные в жанре личных дневников, писем или путевых заметок, и собственно воспоминания, автобиографии, исповеди, дневники, переписка, литературные портреты и документальные очерки.
Все эти «тексты культуры» могут служить культурологическим источником лишь при условии критической проверки и переработки, обязательных для каждого вида источника, то есть должны быть подвергнуты экспертизе. Тем более что мемуары относятся к источникам, наиболее осложненным социальными, мировоззренческими, психологическими и другими факторами.
Культурологическое источниковение пока находится в стадии становления, поэтому, несмотря на специфичность главных задач культурологического исследования, на эвристическом этапе экспертизы источника, на наш взгляд, может быть использована методика исторического источниковедения, вследствие ее большей разработанности. Имеется в виду установление подлинности, аутентичности, надежности, достоверности источника. При разработке первых трех фундаментальных характеристик любого источника культурология может полностью опереться на опыт исторической науки в этом деле. При установлении же достоверности, то есть правильности сообщаемых автором сведений, в культурологическом исследовании возникает ряд специфических подходов.
Достоверность - комплексная характеристика источника. Она зависит от следующих его черт: ретроспективность и субъективность. Остановимся на первой. Во всех разнообразных произведениях мемуаристики общий источник память их авторов. Поэтому между временем написания мемуарного произведения и воссоздаваемыми событиями всегда лежит временной промежуток. Он может быть как совершенно незначительным (в дневниках, письмах, путевых заметках), так и сколь угодно большим (в автобиографиях, литературных портретах, очерках, воспоминаниях). Поэтому ретроспективность - необходимая и неотъемлемая черта мемуаристики, которая тем не менее не всегда бывает положительной. При обращении к мемуарному источнику следует учитывать, что от величины разрыва между событиями, отраженными в воспоминаниях, и временем их написания в определенной степени зависит и правдивость фактических данных, и точка зрения автора. Чем больше этот разрыв, тем больше нарастает вероятность ошибок памяти. Отдаленность времени написания воспоминаний от описываемых событий множит в воспоминаниях разного рода ошибки, причем помимо забвения фактов, наблюдаются искажения, которые в экспериментальной психологии носят название «мечтательной лжи», когда «в памяти затуманивается далекое прошлое, и желаемое выдается за действительность» [1, с.386].
Однако достоверность источника зависит не только от особенностей памяти, внимания, типа восприятия, характера и условий работы над мемуарным произведением (что, конечно, следует обязательно учитывать), но в не меньшей степени от личной заинтересованности, пристрастий, политических взглядов, эмоциональной направленности, мировоззренческих ориентиров личности автора, то есть от типа его менталитета.
Все эти качества могут привести к искажению исторических событий, фактического материала и в конечном итоге - истины. Однако, такая субъективность мемуаристики, в отличие от других эмпирических источников, проявляется не как недостаток, дефект мемуаров, а просто как их неотъемлемая черта. Больше того, в постижении характера и причин субъективности мемуариста возникают дополнительные возможности их использования в культурологическом исследовании.
Возможен ли мемуарист, который не был бы субъективен? Возможны ли мемуары, которые были бы, так сказать, нейтральны? Отрицательный ответ на эти вопросы однозначен.
Всегда становясь отражением личности мемуариста, никакие мемуары невозможны без субъективного отношения к воссоздаваемому. Но это не значит, что авторская субъективность в произведении должна превращаться в субъективизм. Все дело в том, какая это субъективность, и что за личность выступает в роли героя воспоминаний. Если есть у него за душой жизненный опыт, знания, мысли, нравственная ос нова и цель - тогда его мемуары впитывают в себя все краски жизни, откликаются на многогранность времени, и, следовательно, «объективны». И никакая точность в датировке не спасет их, если герой мелок, ничтожен душою, корыстен, если взгляд его узок.
Таким образом, субъективность одна из первейших черт мемуаристики, которая нередко становится их важнейшим достоинством, условием их удачи. И та же субъективность одна из первейших причин мемуарных казусов, искажений. Всякий автор, конечно, стремится к точному воспроизведению фактов и событий, имеющих или имевших место в реальной жизни, ведь «острая динамика мемуаристики в свободе выражения и несвободе вымысла, ограниченного действительно бывшим» [2, с.91]. Тем не менее именно ретроспективность и субъективность далеко не всегда позволяют говорить о достоверности, фактической точности мемуаров.
В результате, подвергая экспертизе мемуарные источники, мы, видимо, вправе говорить лишь об установке на достоверность.
Обратимся к мемуаристике «вокруг Ф.М.Достоевского». Очень многие современники сочли своим долгом оставить свои воспоминания о Федоре Михайловиче, так что перед любым исследователем неизбежно встает проблема отбора источников. На первый взгляд, самый богатый материал должен содержаться в записках людей из ближайшего окружения писателя, и прежде всего членов его семьи.
Тут возникает некий парадокс: нам кажется очевидным, что только люди, знавшие Достоевского достаточно близко, могли бы раскрыть нам его «подлинное лицо». Но именно им свойственно идеализировать, приукрашивать как облик самого писателя, так и события его жизни так, как будто бы они боялись «вынести сор из избы» или дать пищу для недобросовестной интерпретации их воспоминаний и впечатлений.
Обратимся, например, к мемуарам второй жены Достоевского Анны Григорьевны. Она повествует спокойно и обстоятельно, без особенно ярких красок, точно передавая даты, множество фактов, деталей, ставя своей задачей рисовать Достоевского-человека, со «всеми его достоинствами и недостатками». И все же, когда сопоставляешь рассказ об одних и тех же фактах в «Воспоминаниях» и в «Дневнике», который А.Г.Достоевская вела в первые месяцы жизни с Достоевским за границей, приходится сказать, что в «Воспоминаниях» образ Достоевского нарисован мягче, «идеальнее», чем в «Дневнике».
Над «Воспоминаниями» Достоевская работала в 1911-1916 годах, то есть на шестьдесят пятом - семидесятом годах жизни, спустя тридцать лет после смерти Достоевского. Ею использовались при работе сохраненные с 60-70-х годов стенографические тетради, (дневники, записи бесед с Федором Михайловичем, их семейных событий, сделанные еще при жизни Достоевского), в ее распоряжении была значительная часть переписки Достоевского, его записные книжки, сохранившиеся черновики произведений. Она часто сверяла написанное с журнальными и газетными статьями, мемуарной литературой о Достоевском и другими печатными источниками. Таким образом, ее «Воспоминания» не являются непосредственным откликом на воздействие личности Достоевского, а напротив-литературное произведение, подвергнутое тщательной обработке. Для филолога именно оно представляет научный интерес.
«Дневник» же, который велся ею за границей, записывался стенографически непосредственно вслед за описываемыми событиями. Он написан, по словам Ф.М.Достоевского, «юным созданием, которое с наивною радостью стремилось разделить со мною странническую жизнь», в котором было «много неопытного», «детского и двадцатилетнего» [3, с.8 ].
Самое интересное, что не только Достоевский, но и сама Анна Григорьевна в «Дневнике» по-земному ближе, глубже, «живее», чем в «Воспоминаниях». И это важно для культурологического исследования.
Другая опасность - искажение фактов в угоду тем или иным политическим, идейным литературным и проч, взглядам. Исследователя, стремящегося к истине, на наш взгляд, должны в большей степени заинтересовать воспоминания людей, не очень известных, т.к. именно они чаще всего брались за мемуары из бескорыстных побуждений, из пресловутого интеллигентского представления о своем долге очевидца перед грядущими поколениями. Так сегодня хорошо известны воспоминания о Достоевском М.А. Александрова. О нем известно лишь, что он работал метранпажем в типографии Тран-шеля, где печатался журнал «Гражданин», а затем в типографии князя В.В.Оболенского, куда Достоевский обратился со своим «Дневником писателя» в 1 876-1877 году, именно потому, что метранпажем там был Александров. Этот скромный, трудолюбивый человек работал над воспоминаниями о Достоевском в конце 80-начале 90-х годов. Будучи хорошо знаком с А.Г. До-
Л итератора стоевской, он послал ей свою рукопись и получил горячее одобрение в ответном письме.
Воспоминания Михаила Александровача Александрова содержат много интересных фактов, при проверке которых в большинстве случаев следует признать их истинность. Важнее всего то, что Александров был далек от политической и идеологической борьбы своего времени, и у него не было стремления представить Достоевского членом того или иного лагеря. Он вообще мало касался этой стороны творчества и деятельности Достоевского, а добивался решения совершенно иной задачи, о чем написала ему Достоевская 16 ноября 1891 года: «По моему мнению, вы в вашем произведении чрезвычайно метко схватили все характерные черты покойного Федора Михайловича и обрисовали его таким, каким он был в домашней, повседневной жизни. Эта сторона мало кому известна, кроме близких к нему людей, к которым, несомненно, принадлежали и вы» [3, с.213^.
Совершенно особую группу составляют разнообразные мемуары профессиональных литераторов. Их природное «чувство слова», стремление облечь в эстетическую форму любое впечатление или переживание, делают интересными и полезными даже те их заметки или письма, которые никак не предназначались к публикации. Так, большой потенциал для исследования содержит переписка Достоевского с Х.Д.Алчевской-учительницей, которая стала и писательницей благодаря Федору Михайловичу. Именно в письмах Христины Даниловны Достоевский увидел ее литературное дарование и посоветовал ей начать серьезно писать. Алчевс-кая впоследствии опубликовала свои письма и ответы на них Достоевского, снабдив их подробными комментариями. Значительную часть этих писем составляет обсуждение замысла, целей и задач «Дневника писателя» Достоевского, что сообщает книге Алчевской дополнительную ценность. Так, в мемуарах иногда содержится информация, которую в таком качестве и объеме невозможно найти более ни в одном виде источников.
Таковы, в общих чертах, только некоторые из особенностей работы с мемуаристикой, которые необходимо учитывать на пути создания технологии, методики использования одного из самых богатых, надежных и интересных источников для культурологического исследования.
-
1. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л.: Сов. писатель, 1971,- 464с.
-
2. Захарова Л.Г. Мемуары, дневники, частная переписка второй половины XIX в. // Источниковедение в СССР XIX - начала XX вв. М.: Наука, 1970. - С. 368-400.
-
3. Ф.М.Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Худ. лит.. 1964. Т 2 -520 с.