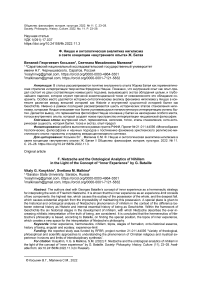Ф. Ницше и онтологическая аналитика нигилизма в свете концепции "внутреннего опыта" Ж. Батая
Автор: Косыхин В.Г., Малкина С.М.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 11, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается понятие внутреннего опыта Жоржа Батая как герменевтическая стратегия интерпретации творчества Фридриха Ницше. Показано, что внутренний опыт как опыт-предел состоит из двух составляющих наивысшего подъема, вызывающего экстаз обладания целым, и глубочайшего падения, которое служит причиной экзистенциальной тоски от невозможности это обладание сохранить. Особое место уделяется историко-онтологическому анализу феномена нигилизма у Ницше в контексте различия между внешней историей как Historie и внутренней сущностной историей бытия как Geschichte. Именно в рамках последней рассматриваются шесть исторических этапов становления нигилизма, которыми Ницше описывает все более усиливающуюся нигилистическую интерпретацию истины бытия. Делается вывод, что герменевтика философии Ницше основана у Батая на нахождении особого места, топоса внутреннего опыта, который создает новое пространство интерпретации ницшеанской философии.
Внутренний опыт, герменевтика, нигилизм, топос, этапы становления, онто-историческая сущность, история бытия, тоска и экстаз, опыт-предел
Короткий адрес: https://sciup.org/149141914
IDR: 149141914 | УДК: 1(091):17.037 | DOI: 10.24158/fik.2022.11.3
Текст научной статьи Ф. Ницше и онтологическая аналитика нигилизма в свете концепции "внутреннего опыта" Ж. Батая
,
,
,
,
Исследование онтологических оснований нигилизма принадлежит к категории фундаментальных проблем современной философской науки. Актуальными вопросами здесь выступают новые подходы к интерпретации истории нигилизма и выявлению его сущности, что имеет также практическую значимость для философского мышления, поскольку способствует более глубокому и полному пониманию сущности нигилизма не только как онтологического, но и как историко-культурного феномена, оказывающего существенное влияние на развитие современной цивилизации.
Существенную роль в исследованиях онтологического нигилизма играет понятие внутреннего опыта. Если мы говорим о внутреннем опыте, то, естественно, вспоминаем автора этого понятия, Жоржа Батая, который на основе объяснения ряда идей Ницше и экзистенциализма создал свою концепцию внутреннего опыта как некий герменевтический ключ, позволяющий в некотором плане перетолковывать если не всю философию, то, по крайней мере, ту философию, которая к этому внутреннему опыту имеет непосредственное отношение. Поскольку для Батая понятие внутреннего опыта – это расширение понятия экзистенции, это порождает не только вопрос возможности экзистенциального прочтения Ницше, но и вопрос о том, может ли быть прочтение Ницше не экзистенциальным? Например, когда мы читаем Огюста Конта или Карла Маркса, то мы можем находить в них моменты экзистенциальности, а можем и не находить, ведь, в конце концов, ряд интерпретаций как Конта, так и Маркса может быть и вовсе лишен экзистен-циальности. С другой стороны, при чтении Ницше экзистенциальное понимание является первичным условием того, что мы имеем дело с Ницше, а не с кем-то иным, тем более, что сам Ницше часто советовал своим читателям не путать его с кем-то еще.
Внутренний опыт Батай характеризует как опыт-предел, который выявляет подлинную природу истины, знания, человека, подлинную природу всего. Опыт Ницше – это тоже опыт-предел, поскольку Ницше предпочитает философствовать на высотах, или на пределах. Пределы бывают разными, это предел высоты и предел низины. Вопрос о постоянных взлетах и падениях Ницше далеко не случаен, потому что здесь, говоря о понятии опыт-предел в перспективе Батая, мы обнаруживаем две составляющие: наивысшую высоту и глубочайшую низменность. Батай полагает, что с точки зрения опыта-предела между ними нет особой разницы, поскольку этот внутренний опыт означает путешествие на край возможностей человека. Философия Ницше тоже может быть понята как такое путешествие, и здесь Батай видит два момента с точки зрения края возможности: это желание быть всем и абсолютная достоверность смерти, тоже некоего предела (Гайнутдинов, 2016: 1149). С другой стороны, Батай говорит о том, что этот опыт имеет мистическое значение, это опыт необычайный, когда дух человека вступает в особое состояние, в котором окружающий мир принимает странные формы, формы тоски и экстаза1. Экстаз как вершина опыта и тоска как его низина. Можно ли считать философию Ницше смесью тоски и экстаза, начиная с «Рождения трагедии» и заканчивая поздним Ницше?
С точки зрения Батая, у такого опыта немного предшественников, он вообще называет только одного: Ницше. В пространстве внутреннего опыта философия Ницше предлагает индивидуальный разговор на уровне индивидуального сообщества, которое состоит из двух индивидов. Для Батая Ницше – это философ подлинной жизни, который начал движение по направлению к внутреннему опыту и, именно в силу этого остался непонятым, потому что, с точки зрения Батая, Ницше никто не принимал всерьез именно в силу нехватки внутреннего опыта у тех, кто его читал и интерпретировал. Ницше можно принимать всерьез только при условии, что ты сам находишься в пространстве этого опыта-предела – на пределе высоты или же на пределе низины. Если не находиться на этом пределе, то мысль Ницше покрывается вводящей в заблуждение целой сетью масок или иероглифов, которые можно долго разгадывать, вычитывая в них что угодно, но это вовсе не будет означать проникновения в суть опыта Ницше. Потому что всегда, когда мы говорим об опыте мысли, например, следуя Хайдеггеру, мы ставим акцент на мысли. Но, говоря об опыте мысли в духе Ницше или Батая, мы можем делать акцент на опыте. Это то, что отличает Ницше от Хайдеггера, в том числе.
Итак, почему никто никогда не хотел идти к тем глубинам и безднам, о которых говорил Ницше? Ведь все обращали внимание (и это главная ошибка в прочтении Ницше, по Батаю) на то, что говорит Ницше, а не на то место, не на тот топос внутреннего опыта, из которого он говорит. Примером такого неудачного прочтения Ницше для Батая является как раз Хайдеггер, который всегда очень внимательно вслушивался в слова Ницше, в нечто им сказанное (Merawi, 2019: 46). Однако мысль Ницше должна быть понята вне этого «нечто», она понимается только «откуда», то есть, согласно Батаю, мысль Ницше становится доступной пониманию только в случае, если понимающий находится в том же месте, что и Ницше, в том топосе, откуда исходит его мысль. Это место, этот топос – а мы говорим о топологии ницшеанских пределов – и является местом внутреннего опыта. Но это опыт тотальной катастрофы. Ницше недоступен для понимания тех, кто не претерпел эту тотальную катастрофу в себе. Опыт-предел, как в своем высшем экстатическом проявлении, так и в низшем, в форме тоски, причем тоски именно по всему и экстаза от охвата всего, эта тотальность катастрофы и является главным моментом в интерпретации Ницше для Батая. Только тот, кто пережил в себе тотальность катастрофы, то есть крушение всего, сможет понимать Ницше, который тоже пережил эту тотальную катастрофу в себе.
Внутренний опыт имеет ряд характеристик. Все они негативны. Первое, он противостоит дискурсивному познанию, ведет не к разуму, но к тому, что находится по другую сторону разума, к бессмысленности, безмыслию и невыразимости. Второе, он деструктивен, поскольку отнимает у духа все полученные прежде ответы. Эта деструктивность унаследована от Ницше, отнимавшего у философии все те ответы, которые она давала, начиная с Платона, которые дают метафизика и идеализм. Третье, он связан не с приобретением, но с растратой, то есть предполагает полную растрату всех жизненных сил (Евстропов, 2011: 50). Если первые два момента вполне сопоставимы с хайдеггеровским проектом, то третий полностью чужд хайдеггерианству и свойственен исключительно мысли Батая. Если Гегель и традиция метафизики себя собирают в некий логос, то Ницше в понимании Батая себя разбирает или растрачивает. Поэтому тот ум, которому неведома экзистенциальная растрата, тотальная утрата себя, просто не понимает всего значения этого жеста в новой философии Ницше. Но, одновременно, эти три характеристики свойственны позиции нигилизма. В этом смысле Ницше не случайно говорит о неизбежности нигилизма, негативного или позитивного, где в компании Шопенгауэра находятся Конт и Маркс, позитивисты и социалисты.
Интересно то, как Ницше представляет себе зарождение нигилизма и его историю. Вообще историзм почти всегда присутствует как фон ницшеанских размышлений, однако образ истории у Ницше двойственен. Еще у Гегеля мы встречаем любопытное разделение истории, заимствованное им у протестантских теологов XVIII века, на два вида: Historie и Geschichte. Различие между ними восходит к христологическим спорам и касалось рассмотрения истории жизни Христа либо как вписанной в контекст исторических реалий Палестины и Римской империи того времени, истории как Historie с точки зрения историков религии, либо глубинной священной истории как Geschichte с точки зрения верующего человека и теолога, где события внешней истории не столь значимы, а зачастую и не значимы вовсе. Здесь Geschichte выступает некоторым предпочтительным видом истории, оказываясь историей в сущностном смысле. Такое разделение истории использовалось в дальнейшем и Гегелем, и Ницше, а позже Хайдеггером, который в своей работе о Ницше говорит об онто-исторической сущности нигилизма: «там, где сущее объявляется ничем, можно обнаружить нигилизм, но нельзя напасть на его сущность, которая только там появляется впервые, где nihil касается самого бытия. Сущность нигилизма есть история, в которой само бытие ввергается в ничто»1.
Итак, перед нами двойная история, история как Historie и история как Geschichte. В «Воле к власти», пожалуй, наиболее известном произведении о нигилизме, Ницше затрагивает только одно, внешнее измерение этой двойной истории, историю как Historie. Поэтому «Воля к власти» вовсе не является тем произведением, которое раскрывает нам сущностное измерение нигилизма в его ницшеанском понимании. О сущности же нигилизма говорит другое произведение Ницше – «Сумерки кумиров или как философствуют молотом». Существуют дневниковые записи Ницше, в которых он делал наброски к этой работе. Там он утверждает, что нигилизм – это крушение всеобщей тяги к почитанию моральных ценностей, что нет новых интерпретирующих сил. Именно отсутствие подобных сил к новой интерпретации реальности указывает на путь к другой истории нигилизма, его сущностной истории как Geschichte. С восстановлением этой истории как раз и связано появление новых интерпретирующих сил, открывающих возможность для преодоления нигилизма. Из этого восстановления Geschichte появляются новые интерпретативные концепты воли к власти с ее метаморфозами и вечного возвращения, действующего как молот. Само название книги Ницше «Сумерки кумиров или как философствуют молотом» ставит вопрос о том, что означает философствовать молотом? В своих черновых набросках Ницше прямо говорит, что таким молотом должна стать концепция вечного возвращения. Однако это требует двойного уточнения, возвращением к чему является вечное возвращение и каким образом им можно философствовать?
Итак, связанная с Geschichte сущность нигилизма оказывается онто-исторической. Онтоисторизм есть позиция, когда сущность понимается как осуществляющаяся через этапы истории. Хорошим примером онто-исторического понимания сущности является не только гегелевская философия, но и философия Маркса и Ницше. Позже сущность в ее историческом становлении окажется важной чертой хайдеггеровского дискурса.
С точки зрения трактовки сущности в целом есть две возможных позиции: либо мы говорим о сущности в духе Аристотеля, то есть как о некоей неизменяющейся форме (будь то дерево или человек), либо мы говорим о сущности как изменяющейся в процессе своего исторического становления в духе онто-исторической традиции от Гегеля до Ницше и Хайдеггера.
Так, Хайдеггер в своем двухтомнике о Ницше комментирует фрагмент из работы «Сумерки кумиров или как философствуют молотом», озаглавленный «Как истинный мир наконец стал басней, или история одного заблуждения», в котором как раз и описываются этапы становления сущности. Каждый из этих шести исторических этапов описывает все более усиливающуюся нигилистическую интерпретацию истины бытия.
Уже на первом этапе, как замечает Ницше, эта сущность приобретает форму понятия «истинного мира». «Старейшая форма идеи, простая и относительно убедительная, перифраза положения “Я, Платон, есть истина”, “истинный мир, достижимый для мудреца, для благочестивого, для добродетельного, – он живет в нем, он есть этот мир”»1.
Стартовой точкой отсчета здесь выбран истинный мир, где истина соединена с добродетелью и допускает пребывание в ней. Здесь особое значение имеют фигуры первых философов, Сократа и Платона. Для Ницше они являются первыми философами, только потому что те, кто был до них, вовсе не говорили о каком-то отдельном «истинном мире». Ницше не случайно ставит слово «истинный» в этом выражении в кавычки. То есть «истинный мир» здесь выступает как определенная форма сознательного заблуждения. Впрочем, досократики в этом смысле не были философами настоящего, они были философами прошлого или философами будущего. Это предполагает, что философ – это одновременно и физиолог, и врачеватель, и пророк. Такая многомерная фигура противопоставляется Ницше одномерному образу философа, начиная с Сократа. Что объединяет Пифагора, Гераклита и Эмпедокла, так это то, что они не только философы, философ – только одна из граней их личности. На смену «в том числе» философам приходят «только» философы. Первая фигура только философа – Сократ, который вместе со своим учеником Платоном творит новый миф о том, что истиной обладает только философия. Именно в этом контексте Ницше заключает фразу «истинный мир» в кавычки, подразумевая миф об истинном мире философии, изобретаемом ею же самой. Ницше замыкает круг: философ будущего это не только философ, но и поэт, и пророк, фигура, которую Ницше нарисует в образе Заратустры.
Хайдеггер связывает истинный мир не с философским учением, а с истиной присутствия. Соглашаясь по сути дела с тем онтологическим содержанием, которое Хайдеггер внес в трактовку истинного мира, отметим, однако, что для Ницше истинность этого «истинного мира» как раз сомнительна.
Начавшееся с истинного мира движение нигилизма усиливается на втором этапе становления «истинного мира», связанном с его выходом за собственные пределы, вернее, в нигилистическую бесприютность: «2. Истинный мир, недостижимый нынче, но обетованный для мудреца, для благочестивого, для добродетельного (“для грешника, который кается”). (Прогресс идеи: она становится тоньше, запутаннее, непостижимее, – она становится женщиной, она становится христианской…)»2.
В отличие от первого этапа, «истинный мир» в средневековой религиозной философии становится уже недостижимым. Недостижимость Хайдеггер объясняет тем обстоятельством, что сверхчувственное бытие не находится в сфере человеческого вот-бытия, все человеческое существование становится посюсторонним, поскольку сверхчувственное стало потусторонним, идея отправляется в изгнание. История забвения или покидания истинного мира по Ницше, история забвения бытия по Хайдеггеру. Здесь начинается онто-историческое понимание становления сущности как нигилистического движения «из центра в Х», если воспользоваться выражением Ницше.
На третьем этапе нигилизм принимает форму кантовской трансцендентальной критики метафизики: «3. Истинный мир, недостижимый, недоказуемый, не могущий быть обетованным, но уже, как мыслимый, утешение, долг, императив. (Старое солнце, в сущности, но светящее сквозь туман и скепсис: идея, ставшая возвышенной, бледной, северной, кенигсбергской)»3. Взгляд философа направляется уже не на «истинный мир», возможность, только возможность существования которого не отрицается, а на выяснение условий возможности его познания и способы применения императивов морального долженствования.
«4. Истинный мир – недостижимый? Во всяком случае недостигнутый. И как недостигнутый, также неведомый. Следовательно, также не утешающий, не спасающий, не обязывающий: к чему может обязывать нас нечто неведомое?.. (Серое утро. Первое позевывание разума. Петуший крик позитивизма)»4.
Позитивизм, восприняв уроки кантовской критики, идет дальше, «истинный мир» связан не с философией, а только с научным познанием. Претензии философского разума на истину объявляются несостоятельными.
Отсюда пятый этап: «5. “Истинный мир” – идея, ни к чему больше не нужная, даже более не обязывающая, – ставшая бесполезной, ставшая лишней идея, следовательно, опровергнутая идея – упраздним ее! (Светлый день; завтрак; возвращение bon sens и веселости; краска стыда Платона; дьявольский шум всех свободных умов)»1. Это, по сути дела, позиция раннего Ницше эпохи «Утренней зари» и «Веселой науки».
Последним, завершающим этапом, как мы знаем, является философия позднего Ницше, где как кульминационный пункт появляется фигура Заратустры как философа будущего: «6. Мы упразднили истинный мир – какой мир остался? быть может, кажущийся? Но нет! вместе с истинным миром мы упразднили также и кажущийся! (Полдень; мгновение самой короткой тени; конец самого долгого заблуждения; кульминационный пункт человечества; INCIPIT ZARATHUSTRA)»2.
В собственном осмыслении этой кульминации ницшеанства, понимаемой им как первичное вступление в пространство опыта-предела, Батай пытается соединить два момента: тоски и экстаза. Он полагает, что Ницше пытается принести тоску в жертву экстазу, поскольку для немецкого мыслителя мир экстаза, или мир вершины обладает более фундаментальным значением. У Ницше, чтобы философствовать, философы должны предпочтительно находиться в горах, у Батая подобное предпочтение оказывается нахождению сразу в двух местах, и в горах, и в низине, в опыте-пределе мы смотрим одновременно с двух позиций, сверху и снизу.
Самое первое произведение Ницше – «Рождение трагедии» – говорит о двух противоположных сторонах опыта-предела, какими выступают Аполлон и Дионис. Да, в опыте-пределе открывается Бог, но этот Бог может быть двуликим, выступая то как Аполлон, то как Дионис. Знаменитая подпись Ницше в последних письмах «Дионис» выступает как компенсация аполлони-ческого начала его творчества. Дионис у Ницше символизировал разорванность и растрату, уравновешивая аполлонический порыв. Ведь и сам Ницше утверждал необходимость достижения равновесия между Аполлоном и Дионисом.
Батай не случайно говорит, что Ницше начал движение к опыту-пределу, поскольку движение Ницше было не двухсторонним, а только односторонним. Заратустра не поднимается в горы, он спускается с гор. Батай же пытается и восходить на горы, и спускаться с них. В этом отношении опыт Ницше является только частью опыта Батая. Если рассмотреть это на примере известного концепта сверхчеловека, то для Ницше он является противоположностью последнего человека и идет ему на смену, для Батая сверхчеловек и последний человек вовсе не противоположны, а являются разными сторонами единого целого. Именно это Батай называет опытом невозможного, опытом-пределом.
Для Батая понять Ницше – это вступить с ним в одно сообщество. Философия Ницше направлена на поиск тех, кто может вступить в это сообщество мыслящих вместе с Ницше. Но каковы условия вступления в это сообщество? В «Ученике колдуна» Батай пишет: «Обособленный индивид никогда не имеет возможности создать мир… совпадение желаний не менее необходимо для рождения человеческих миров, чем совпадение случайных сочетаний фигур»3. Вот это совпадение топоса, о котором говорил Батай, это совпадение внутреннего опыта, опыта-предела, по сути, и есть та общность, которая выявляет, насколько мы близки или далеки от Ницше. Опыт-предел, или опыт катастрофизма собственного мышления либо помещает нас в орбиту ницшеанской мысли, либо выводит за ее пределы.
Список литературы Ф. Ницше и онтологическая аналитика нигилизма в свете концепции "внутреннего опыта" Ж. Батая
- Гайнутдинов Т.Р. Проблема смерти в философии Жоржа Батая // Философия и культура. 2016. № 8. С. 1148-1157.
- Евстропов М.Н. Жорж Батай: опыт бытия как критика онтологии // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 344. С. 50-56.
- Merawi F. Habermas on Heidegger and Bataille: Positing the Postmetaphysical Experience // Open Journal for Studies in Philosophy. 2019. Vol. 3. Pp. 45-60.