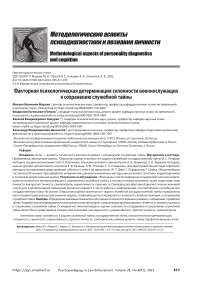Факторная психологическая детерминация склонности военнослужащих к сохранению служебной тайны
Автор: Марьин М.И., Петров В.Е., Кокурин А.В., Шахматов А.В.
Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd
Рубрика: Методологические аспекты психодиагностики и познания личности
Статья в выпуске: 4 (95), 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение. Цель - выявить склонности военнослужащих к сохранению служебной тайны.
Склонность к защите служебной тайны, государственная тайна, психологическая детерминация, открытость, скрытность, нормативность, прогностичность, самоконтроль, умение хранить тайну, профессиональная этика
Короткий адрес: https://sciup.org/149144457
IDR: 149144457 | УДК: 159.9.07 | DOI: 10.24412/1999-6241-2023-495-411-415
Текст научной статьи Факторная психологическая детерминация склонности военнослужащих к сохранению служебной тайны
Мikhail I. Maryin 1, Doctor of Science (in Psychology), Professor, Professor at the Chair of Scientific Basis of Extreme Psychology; ;
Vladislav E. Petrov 1, Candidate of Science (in Psychology), Associate-Professor, Associate-Professor at the Chair of Scientific Basis of Extreme Psychology; ;
kokuri ;
Аlexandr V. Shakhmatov 3, Doctor of Science (in Law), Professor, Professor at the Chair of Operational Crime Detection; ;
Актуальность, значимость и сущность проблемы. Развитие современного общества базируется на демократических началах, открытости, плюрализме, обмене мнениями, внедрении информационных технологий, обеспечивающих гражданам оперативный доступ к актуальным сведениям. Достоянием гласности становятся текстовые, фото- и видеоматериалы, затрагивающие различные сферы жизнедеятельности [1–3], и др. Однако при всей информационной открытости общества существуют некоторые области, в которых подобная ситуация недопустима. Так, особенностью деятельности представителей силовых ведомств является оперирование преимущественно с конфиденциальной (служебной) информацией и сведениями, составляющими государственную тайну. Разглашение подобной информации не только наносит ущерб тому или иному ведомству, дестабилизирует его работу, нивелирует имидж [4], но и представляет угрозу государственной безопасности [5–7]. Для Вооруженных Сил Российской Федерации, как и для иных ведомств силового блока, феноменология безопасности в сфере работы со служебной информацией также находится на лидирующих позициях. При этом в системе защиты сведений, представляющих служебную (государственную) тайну, помимо нормативноправовых, организационных и технических мероприятий, мероприятий по профессиональному отбору и подготовке личного состава, особая роль отводится психологии [8; 9].
В центр внимания ставятся личность сотрудника (военнослужащего), сформированность у него правосознания, выраженность нормативности, овладение им профессиональной этикой.
Практическая, экстремальная и юридическая психология, психология труда и психодиагностика предоставляют психологам, специалистам подразделений по защите государственной тайны, а также профессионального психологического отбора кандидатов на службу возможности тестологической оценки как отдельных профессионально важных качеств, так и их паттернов. Вопросам паттерна профессионально важных качеств личности военнослужащего посвятили свои труды А. В. Барабанщиков, Г. В. Блях, Л. А. Кандыбович, А. Г. Караяни, В. П. Каширин, А. Т. Ро-стунов, Э. П. Утлик и др. Однако при развитости подходов к психологическому изучению личности представителей профессий особого риска вопросы личностных предикторов к соблюдению (разглашению) служебной тайны остаются открытыми. Проблематика усиливается не только выраженной ее актуальностью, но и ограниченностью специализированных психодиагностических инструментов оценки заявленного психологического феномена [8, 10; 11] и др. Принимая во внимание существующие методологометодические противоречия в области факторной детерминации склонности военнослужащих к защите служебной тайны, в 2020–2023 гг. мы провели соответствующее научное исследование. Его методологической основой выступила субъектно-деятельностная концепция Е. А. Климова, в первую очередь положения о детерминации поведения личностными особенностями субъекта труда.
Материалы и методы
База исследования. В качестве основного диагностического инструментария выступил «Опросник оценки склонности к защите служебной (государственной) тайны» В. Е. Петрова (форма А). На разных этапах исследования использовались диагностические методики, позволяющие раскрыть парциальные характеристики, в той или иной степени диагностирующие индикаторы склонности представителей силовых ведомств к сохранению служебной тайны (методика оценки импульсивности В. А. Лосен-кова, опросник волевого самоконтроля А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана, методика «Уровень субъективного контроля» Е. Ф. Бажина, Л. М. Эткинда, Е. А. Голынкина, пятифакторный личностный опросник, методика исследования представлений субъекта о себе и об идеальном «Я» Т. Лири, Г. Лефоржема, Р. Сазека). Проводился экспертный опрос представителей подразделений по защите государственной тайны о степени выраженности правопослушного (в части соблюдения установленных правил обращения с информацией, составляющей служебную или государственную тайну, а также этики поведения) поведения военнослужащих.
В лонгитюдном исследовании приняли участие 678 человек, из них 427 военнослужащих, 170 сотрудников полиции, 81 работник.
По критерию склонности к сохранению служебной тайны были сформированы две контрастные группы из числа военнослужащих: первая (n=116) — не склонные к разглашению служебной тайны; вторая (n=25) — склонные к разглашению. Оставшаяся часть испытуемых (286 военнослужащих, 170 сотрудников полиции, 81 работник) продемонстрировали средние показатели выраженности склонности к сохранению тайны, они учитывались только при расчете статистических показателей и уточнении нормативных данных в общей выборке.
Для обработки эмпирических данных в автоматизированном пакете IBM Statistics v 27 применялись методика описательной статистики, корреляционный анализ по К. Пирсону, линейный регрессионный анализ.
Предварительная проверка гипотезы о нормальности распределения диагностических показателей (критерий Колмогорова-Смирнова) подтвердила ее состоятельность, что послужило основанием применения параметрических критериев обработки данных.
На концептуальном уровне научного исследования анализ эмпирических сведений предполагал: 1) определение потенциальных личностных (диагностически значимых) маркеров, связанных с феноменологией сохранения (разглашения) служебной тайны; 2) построение модели оценки склонности военнослужащих к сохранению служебной тайны; 3) конструирование многопараметрической регрессионной модели, позволяющей прогнозировать склонность военнослужащих к сохранению служебной тайны.
Результаты и обсуждение
Выявление склонности военнослужащих к сохранению служебной тайны. На основе данных экспертного опроса сотрудников подразделений по защите государственной тайны были выделены две контрастные группы военнослужащих: первая (n=116) — склонные к сохранению служебной тайны; вторая (n=25) — склонные к разглашению служебной тайны (военнослужащие пользовались смарт-устройствами и некатегорированными средствами вычислительной техники, вели активную переписку в социальных сетях).
На основе U-критерия Манна-Уитни установлены статистически значимые различия в выделенных группах. Так, из 21 параметра на уровне значимости 0,01 селективными оказались «самоконтроль» и «прогностичность», на уровне значимости 0,05 — «нормативность», «подозрительный тип» и «дружелюбный тип» (табл.).
Принципиально важно то, что общедиагностический инструментарий оказался слабо пригоден для изучения столь специфической сферы, как феноменология склонности к сохранению служебной тайны.
В то же время опросник оценки склонности к защите служебной (государственной) тайны изначально разрабатывался под особенности деятельности представителей силовых ведомств, его стимульный материал опирался на тематику работы с информацией ограниченного пользования (пример утверждений: «Мне импонирует, что, рассказывая членам семьи или друзьям о профессиональной деятельности, я вижу в их глазах восхищение и уважение к Армии России»; «Полагаю, что информацию о месте дислокации тех или иных воинских подразделений необходимо скрывать от посторонних людей, за исключением членов семей военнослужащих»; «В целях популяризации военной службы необходимо размещать в сети Интернет больше информации о ее специфике и деятельности военнослужащих»), а также имеет хорошую систему оценки валидности протокола обследования. Принимая во внимание психометрические характеристики данного диагностического инструментария, при последующем анализе данных мы опирались лишь на сведения, полученные с помощью специализированного опросника.
Таблица. Показатели склонности военнослужащих к сохранению служебной тайны для разных групп испытуемых (Table. Indicators of military personnel inclination to keep official secrecy for different groups of respondents )
|
Наименование шкалы |
Склонные к сохранению |
Склонные к разглашению |
Значимость различий (p) |
Общая выборка |
|
х ±о |
х ±о |
х ±о |
||
|
Опросник оценки склонности к защите служебной (государственной) тайны В. Е. Петрова |
||||
|
Самоконтроль |
16,13±3,41 |
9,97±3,43 |
≤0,01 |
12,80±2,67 |
|
Нормативность |
28,34±7,35 |
21,37±6,00 |
≤0,05 |
26,76±6,01 |
|
Прогностичность |
19,30±6,78 |
10,01±7,71 |
≤0,01 |
14,59±7,55 |
|
Скрытность |
15,20±6,80 |
13,80±5,75 |
– |
13,72±5,91 |
|
Методика оценки импульсивности В. А. Лосенкова |
||||
|
Импульсивность |
39,34±8,62 |
39,34±8,62 |
– |
39,34±8,62 |
|
Опросник А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана |
||||
|
Настойчивость |
8,36±2,75 |
8,10±1,95 |
– |
8,16±1,64 |
|
Самообладание |
5,53±2,08 |
5,50±3,47 |
– |
5,52±1,64 |
|
Методика «Уровень субъективного контроля» Е. Ф. Бажина, Л. М. Эткинда, Е. А. Голынкина |
||||
|
Общая интернальность |
37,62±6,37 |
34,39±7,74 |
– |
36,13±7,08 |
|
Пятифакторный личностный опросник |
||||
|
Нейротизм |
19,56±6,04 |
17,76±5,94 |
– |
18,06±5,99 |
|
Экстраверсия |
31,60±6,87 |
30,69±6,04 |
– |
31,26±6,82 |
|
Открытость опыту |
27,78±5,37 |
29,09±6,13 |
– |
28,55±5,67 |
|
Согласие |
29,46±7,42 |
27,11±7,23 |
– |
28,60±7,00 |
|
Сознательность |
36,44±8,91 |
33,27±7,67 |
– |
35,86±8,32 |
|
Методика исследования представлений субъекта о себе и об идеальном «Я» Т. Лири, Г. Лефоржема, Р. Сазека |
||||
|
Авторитарный |
11,45±3,45 |
9,78±3,27 |
– |
10,76±3,49 |
|
Эгоистичный |
8,76±2,72 |
8,50±3,06 |
– |
8,59±2,67 |
|
Агрессивный |
7,69±2,97 |
7,43±3,00 |
– |
7,62±2,84 |
|
Подозрительный |
9,27±4,36 |
4,12±3,68 |
≤0,05 |
6,04±3,06 |
|
Подчиняемый |
6,16±3,03 |
5,27±3,29 |
– |
5,84±3,10 |
|
Зависимый |
6,86±3,76 |
6,07±3,45 |
– |
6,20±3,03 |
|
Дружелюбный |
4,15±3,65 |
9,38±2,70 |
≤0,05 |
8,47±2,59 |
|
Альтруистический |
9,78±3,33 |
9,09±2,88 |
– |
9,30±2,92 |
Модель оценки склонности военнослужащих к сохранению служебной тайны. В ходе корреляционного анализа эмпирических данных обоснована факторная структура личности военнослужащего, склонного к сохранению (защите) служебной (государственной) тайны. Статистически значимые корреляционные связи позволили выделить диагностические индикаторы-предикторы склонности к защите информации (рис.).
Склонность к сохранению служебной тайны
____________________________________ I
Скрытность r=0,08*
Нормативность r=0,10*
Прогностичность r=0,27***
I ___________________________________________
Самоконтроль r=0,13**
Рис. Факторная личностная детерминация склонности к сохранению служебной тайны
( Fig. Factor personal determination of the inclination to keep official secrecy)
Модель оценки склонности военнослужащих к сохранению служебной тайны может быть представлена в виде четырехкомпонентной структуры: 1) прогностичность (r=0,27; р=0,001), 2) самоконтроль (r=0,13; р=0,01), 3) нормативность (r=0,10; р=0,05), 4) скрытность (r=0,08; р=0,05). Все компоненты демонстрируют прямую корреляционную связь с предрасположенностью личности к сохранению тайны. Согласно данной модели на первый план выходят прогностические способности индивида, т. е. превентивная оценка потенциала (последствий, перспектив, угроз, ограничений и т. п.) работы с информацией ограниченного пользования, предвидение (умение «заглянуть в будущее») вариантов развития соответствующих событий, избегание неопределенности в порядке сохранения служебной тайны. Самоконтроль проявляется в способности военнослужащего регулировать собственное поведение в части обращения информации, которая в той или иной степени может нанести вред интересам службы, не допускать импульсивные поступки, сохранять самообладание в любых ситуациях. Несколько меньший по сравнению с прогностичностью и самоконтролем вклад в обеспечение должного порядка работы со служебной информацией на уровне личности вносит нормативность, проявляясь как установка на строгое соблюдение действующих правовых норм (в первую очередь, запретов и ограничений), а также избегание недостаточно урегулированных правоотношений, связанных с оборотом информации, которая имеет действительную или потенциальную служебную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам (при этом к подобным сведениям на законном основании у получателя нет свободного доступа, а обладатель информации принимает действенные меры к охране ее конфиденциальности). Скрытность проявляется в стремлении военнослужащего утаивать различную информацию (в том числе не относящуюся к категории «для служебного пользования»), избегании или нежелании предоставления не только избыточных, но и порой необходимых для решения какой-либо проблемы сведений.
Многопараметрическая регрессионная модель прогнозирования склонности военнослужащих к сохранению служебной тайны. В ходе регрессионного анализа эмпирических данных была предложена многопараметрическая модель прогнозирования склонности военнослужащих к сохранению служебной тайны. Она может быть представлена в следующем виде:
У=–3,385+0,196хХ1+0,210хХ2+0,567хХ3+0,347хХ4, где У — склонность к сохранению служебной тайны;
-
Х1 — скрытность;
-
Х2 — прогностичность;
-
Х3 — самоконтроль;
-
Х4 — нормативность.
Все парциальные показатели представлены в стенах. Коэффициент детерминации модели составляет 0,764, т. е. указанные выше четыре фактора на 76,4% определяют изменение склонности личности военнослужащего к сохранению служебной тайны. Экспертный экспресс-анализ работы модели (сопоставление тестовых данных с оценками экспертов по прошествии 6–8 месяцев с момента проведения обследования) показал сходные результаты. Удельный вес неучтенных факторов относительно невелик (23,6%), что указывает на хорошие прогностические способности предлагаемой модели.
В качестве примера работы данной модели был проведен подсчет баллов для двух сотрудников.
Первый сотрудник априори относился к группе лиц, склонных к сохранению служебной тайны, второй — не склонных к сохранению служебной тайны:
-
1-й сотрудник: Х1=6; Х2=9; Х3=10; Х4=8.
Расчет прогноза для первого сотрудника:
У=–3,385+0,196х6+0,21х9+0,567х10+0,347х8=8,127.
2-й сотрудник: (Х1=6; Х2=3; Х3=3; Х4=4).
Расчет прогноза для второго сотрудника:
У=–3,385+0,196х6+0,21х3+0,567х3+0,347х4=1,51.
Расчетные значения У у первого сотрудника составляют 8,127 (округлено до 8), у второго — 1,51 (округлено до 2)
балла соответственно. Согласно интерпретации данных по шкале стен 8 баллов следует отнести к высоким показателям, а 2 балла — к низким. Модель достоверно разделила испытуемых по степени выраженности к склонности к сохранению служебной тайны.
Выводы
Проведенное нами научное исследование позволило сформировать практико-ориентированную (диагностически значимую) факторную модель психологической детерминации склонности военнослужащего к сохранению служебной тайны. Ведущими компонентами модели выступают такие парциальные характеристики личности, как прогностичность, самоконтроль, нормативность, скрытность. Именно они образуют своеобразный личностный «каркас» протекции от разглашения сведений, составляющих служебную или государственную тайну. Важным результатом исследования явилось создание регрессионной многопараметрической модели прогнозирования склонности военнослужащих к сохранению служебной тайны.
Подход к изучению феноменологии склонности к защите (сохранению) служебной тайны позволяет вывести на принципиально иной (более высокий) уровень работу. На смену мерам наказания за правонарушения или преступления в сфере обращения служебной информации предлагается перейти к прогнозированию и превентивной профилактической работе. В целом материал настоящего научного исследования позволяет усовершенствовать методы психологической диагностики представителей профессий особого риска.
Перспективы. Исследование может быть продолжено и направлено на поиск дополнительных показателей, позволяющих осуществлять прогнозирование, оперативную диагностику склонности личного состава силовых ведомств к сохранению служебной тайны, а также проведение превентивной профилактической работы.
Список литературы Факторная психологическая детерминация склонности военнослужащих к сохранению служебной тайны
- Войскунский А. Е. Информационная безопасность: психологические аспекты // Национальный психологический журнал. 2010. № 1. С. 48-53.
- Смолькова И. В. Профессиональная этика — нравственная основа профессиональной тайны // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2013. № 2. С. 181-184.
- Stawiski S., Linn R. Exploring the Relationship between Trust and Information Sharing in Negotiation. Negotiation and Conflict Management Research. 2016. № 9(3). Рр. 207-226.
- Сурцев А. В. Моделирование процесса формирования положительного образа сотрудника органов внутренних дел как защитника правопорядка // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 1(74). С. 148-150.
- Голубчиков С. В., Новиков В. К., Баранова А. В. Виды профессиональной тайны и ее защита // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2018. № 1. С. 83-86.
- Дубровский А. В., Рузаев Н. В. Проблемы формирования компетенций специалистов связи в области защиты государственной тайны // Вестник Самарского юридического института. 2019. № 5(36). С. 120-126.
- Schweitzer M. E., DeChurch L. A. Ethics and negotiation: The role of shared moral values. Negotiation Journal. 2004. № 20(4). Рр. 487-504.
- Дашко М. Н., Виноградов М. В. Профессиональный психологический отбор на службу в органы внутренних дел: новый подход к изучению личных и деловых качеств граждан, поступающих на службу в подразделения МВД // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2015. № 3(62). С. 101-106.
- Русанов В. Ю. Особенности подготовки кадров по защите государственной тайны // Наука. Общество. Оборона. 2016. № 4(9). С. 6. doi:10.24411/2311-1763-2016-00034.
- Петров В. Е. Психодиагностическая оценка склонности военнослужащих к сохранению служебной тайны // Актуальные проблемы профессионально-практической психологии (дьяченковские чтения — 2022): сб. науч. трудов I междунар. конф. М., 2022. С. 498-502.
- Rasinger J. D., Cederstrom A. The art of keeping a secret: Defining and exploring confidentiality in negotiation. International Negotiation. 2014. № 19(3). Рр. 421-440.