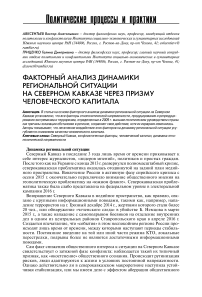Факторный анализ динамики региональной ситуации на Северном Кавказе через призму человеческого капитала
Автор: Авксентьев Виктор Анатольевич, Гриценко Галина Дмитриевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе факторного анализа динамики региональной ситуации на Северном Кавказе установлено, что все факторы этнополитической напряженности, продуцирования и репродуцирования экстремизма и терроризма, определенные в 2009 г. высшим политическим руководством страны как причины эскалации обстановки в регионе, сохраняют свое действие, хотя их иерархия изменилась. Авторы показывают, что негативное воздействие этих факторов на динамику региональной ситуации усугубляется снижением качества человеческого капитала.
Северный кавказ, конфликтогенные факторы, человеческий капитал, динамика этнополитической напряженности
Короткий адрес: https://sciup.org/170168591
IDR: 170168591
Текст научной статьи Факторный анализ динамики региональной ситуации на Северном Кавказе через призму человеческого капитала
Северный Кавказ в последние 3 года лишь время от времени приковывает к себе интерес журналистов, «лидеров мнений», политиков и простых граждан. После того как на Украине с конца 2013 г. развернулся полномасштабный кризис, северокавказская проблематика оказалась отодвинутой на задний план медийного пространства. Вовлечение России в активную фазу сирийского кризиса с осени 2015 г. окончательно переключило внимание общественного мнения на геополитическую проблематику на «южном фланге». Северокавказская проблематика также была слабо представлена на федеральном уровне в электоральной кампании 2016 г.
Возвращение Северного Кавказа в медийное пространство, как правило, связано с крупными информационными поводами, такими как, например, нападение террористов на г. Грозный декабре 2014 г., жертвами которого стали более 20 чел., или обнаружение «чеченского следа» в убийстве Б. Немцова в марте 2015 г., а также нападение с самоподрывом боевиков на отделение внутренних дел в одном из центральных районов Ставропольского края в апреле 2016 г. Создается впечатление, что «события» в этом неспокойном регионе России происходят лишь время от времени, между которыми наступают периоды стабильности. Постоянное введение на той или иной части режима КТО, локальные перестрелки, подрывы более не являются достаточными информационными поводами.
Сам факт снижения общественного интереса к ситуации на Северном Кавказе свидетельствует о затяжной фазе конфликта: наблюдается такой их типичный признак, как «окостенение» общественного сознания. Происходит рутинизация рисков, люди адаптируются к жизни в условиях постоянной напряженности. Однако действительно ли в северокавказском макрорегионе наступила устойчивая стабилизация, или мы имеем дело с эффектом аберрации общественного сознания под влиянием резкого обострения геополитической ситуации в обширном Азово-Причерноморско-Прикаспийском макрорегионе, частью которого является Северный Кавказ? Перестал ли Северный Кавказ быть наиболее серьезной внутриполитической проблемой России, как это было сформулировано в послании президента России Федеральному Собранию РФ в ноябре 2009 г.1?
Несмотря на очевидные медийные причины снижения общественного интереса к Северному Кавказу, ситуация в регионе действительно стала спокойнее. Снизилось число терактов, а также погибших и раненых как среди силовиков, так и мирных жителей [Авксентьев, Гриценко 2016: 95]. Стало формироваться представление, что проблемы в регионе уже не столь острые, что в урегулировании ситуации достигнут заметный прогресс, чему способствуют также заявления политиков и общественных деятелей о том, что не только межэтнических и конфессиональных конфликтов, но и проблем на Северном Кавказе нет. Об этом неоднократно заявлял бывший полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе С.А. Меликов2.
Важно учитывать, что некоторое «успокоение» на Северном Кавказе наступило в силу факторов, большую часть которых можно отнести к успешной деятельности государственно-силовых структур, другие связаны с изменением общей ситуации в Азово-Черноморье–Прикаспии. В этой связи уместно вспомнить, что на этапе формирования Северо-Кавказского федерального округа в 2010 г. доминировали экономические приоритеты и считалось, что для снижения напряженности, преодоления остроты конфликтов, противодействия экстремизму и терроризму необходимо изменить жизнь в регионе в его фундаменте, т.е. в экономике. Таким образом, предполагалось формирование системы регионального анти-конфликтогенного менеджмента. Идея была, что называется, выстраданной, она вызревала в недрах еще «большого» Южного федерального округа, включавшего в себя до 2010 г. все территории нынешнего Северо-Кавказского федерального округа.
В серии проведенных нами исследований было зафиксировано, что в 2009 г. состоялся переход северокавказского макрорегиона на негативный конфликтологический сценарий [Авксентьев и др. 2009: 16; Авксентьев, Гриценко, Дмитриев 2011: 555]. Этот прогноз мы сохранили вплоть до 2014 г., который рассматривался нами как достаточно сложный постолимпийский год. Также прогнозировалась возможность системного кризиса российской государственности на фоне начинавшейся экономической стагнации и нерешенности проблем реформирования политической системы в первом десятилетии XXI в. Тогда мы считали, что узловые точки кризиса придутся на 2017, 2018 и 2019 гг. [Авксентьев и др. 2014: 27-30].
На пике эскалации напряженности на Юге России в 2008–2009 гг. стало очевидным, что реактивная модель антиконфликтогенного менеджмента на Северном Кавказе себя исчерпала и нужен принципиально новый подход к управлению региональной ситуацией. Создание округа, который возглавил заместитель председателя правительства России, позволило сконцентрировать большие административные возможности для перехода к системному антиконфликтогенному менеджменту. Эта идея осталась во многом нереализованной.
В 2014 г. была проведена реорганизация управления макрорегионом. Так, было создано Министерство РФ по делам Северного Кавказа, что свидетель- ствует о перераспределении функций полпредства в пользу административноуправленческой деятельности за счет экономической. Новые организационные решения содержат риски отхода от принципов системного антиконфликтоген-ного менеджмента, которые были положены в основу деятельности полпредства в Северо-Кавказском федеральном округе при его образовании [Авксентьев и др. 2014: 31-72]. Полпредство занимается преимущественно административными вопросами, а новое министерство – хозяйственными, по аналогии с другими территориальными министерствами, например Министерством по развитию Дальнего Востока.
Наиболее знаковым политико-управленческим событием стала смена полномочного представителя Президента РФ в СКФО и назначение в мае 2014 г. на эту должность С. Меликова, бывшего в тот момент командующим Объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации – первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России. Замена «проектного менеджера» А.Г. Хлопонина на «силовика» С.А. Меликова является косвенным признанием недостаточной результативности выбранной в 2010 г. модели системного антиконфликтоген-ного менеджмента, призванной добиться радикального изменения обстановки в регионе через масштабные преобразования в экономике.
2014 г. перечеркнул многие прогнозы по Югу России. Можно с осторожностью констатировать переход Северо-Кавказского макрорегиона в 2014 г. с негативного на умеренно негативный конфликтологический сценарий. Это, безусловно, является успешным результатом управленческой деятельности в контексте тех реальных условий, которые сложились в регионе. И все же, делая вывод о возвращении региона на умеренно-негативный сценарий, мы сопровождаем это утверждение оговоркой: данный переход имеет неустойчивый и обратимый характер. Необходимо отметить, что основные результаты стабилизации обстановки на северном Кавказе были достигнуты в процессе подготовки к Олимпийским играм в Сочи. Были приняты беспрецедентные меры безопасности не только в самом Сочи, но и во всем Южном макрорегионе. Это дало позитивные результаты, инерция которых сохранялась почти весь 2015 г. Но такие меры не могут быть постоянными, и есть основания говорить о росте напряженности начиная со второй половины 2015 г.
Это хорошо видно на примере Ставропольского края, играющего важную роль в развитии ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе. С конца 2015 г. фиксируется рост напряженности в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. Наиболее знаковым событием стала драка в середине февраля 2016 г. в г. Пятигорске, поводом к которой стало, казалось бы, незначительное событие – вывешивание флага Ингушетии студентами из окна одной из комнат в общежитии. У местных жителей вывешенный флаг вызвал негативную реакцию, произошла потасовка. Массовая драка была пресечена правоохранительными органами. Это событие показало, что в Ставропольском крае сохраняется высокая напряженность в межэтнических отношениях, и, если бы не активное вмешательство властей, конфликт мог бы выйти за рамки локального.
Другими событиями, серьезно осложнившими обстановку в регионе, стали террористические акты в апреле 2016 г. в Ставропольском крае. Это упоминавшееся выше нападение с самоподрывом на РОВД – первый случай самоподрыва на Ставрополье, а также ликвидация двух боевиков на одной из улиц станицы на востоке кра я1.
В Интернете произошел «взрыв» экспертной активности, при этом версии происшедшего были различными. Так, нападения на сотрудников правоохранительных органов в Ставропольском крае, как считают опрошенные «Кавказским узлом» эксперты, свидетельствуют о стремлении вооруженного подполья реорганизоваться и активно действовать за пределами «горячих» республик Северного Кавказа, а именно на Ставрополье1. По мнению других, стали просыпаться «спящие» джамааты запрещенного в России Исламского государства, которые в течение двух последних лет создавались юге России2. С точки зрения главы Ингушетии Ю.-Б. Евкурова, взрывы у здания полиции на Ставрополье могут быть попыткой террористов проверить новых бойцов3.
Таким образом, говорить о стабильном переходе Северо-Кавказского региона на умеренный конфликтологический сценарий даже в его умеренно-негативном варианте пока не приходится. За ситуацией на Юге России внимательно следят геополитические конкуренты России, и они ее весьма трезво оценивают. Как отмечается в публикации интернет-издания Stratfor, которое рассматривается экспертами как одно из ведущих аналитических изданий и иногда называется «теневым ЦРУ», «наиболее уязвимая сторона России, очевидно, концентрируется вокруг преимущественно мусульманского Северного Кавказа»4. Обратим внимание на эту формулировку: речь идет не просто о наиболее уязвимой стороне Юга России, а всей России.
Факторный анализ репродуцирования напряженности, экстремизма и терроризма на Юге России
В условиях сохраняющейся активности боевиков на Северном Кавказе, активизации пропагандистско-террористической деятельности ИГ, превращения терроризма в глобальную проблему актуальным становится понимание факторов продуцирования и репродуцирования терроризма и экстремизма, причин сохранения напряженности в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений на Северном Кавказе.
Прежде всего, обратимся к тем факторам, которые были обозначены высшим политическим руководством страны в 2009 г. как причины дестабилизации обстановки в регионе и для преодоления которых был образован СевероКавказский федеральный округ. В выступлении на выездном заседании Совета безопасности России в Махачкале 9 июня 2009 г. тогдашний президент России Д.А. Медведев определил 10 основных конфликтогенных факторов на Юге России5. Проанализируем, каково влияние этих факторов на современную региональную ситуацию.
-
1. Низкий уровень промышленного производства. Действие этого фактора сохраняется. Экономические проекты, зафиксированные в Стратегии социально-
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, не ориентированы на реиндустриализацию региона. Модернизация как стратегическое направление экономических преобразований на Северном Кавказе не состоялась и не могла состояться, т.к. не началась в масштабах России.
-
2. Критическая зависимость республик Северного Кавказа от дотаций федерального бюджета. Действие этого фактора также сохраняется. По размеру дотаций на душу населения большинство республик входят в первую десятку по России, хотя и не занимают пять первых позиций (2014) и не лидируют среди «национальных» республик. При этом важно отметить, что популярные лозунги типа «Хватит кормить Кавказ» почти исчезли из публичного дискурса.
-
3. Относительная бедность населения . Этот фактор продолжает действовать. Однако самые бедные семьи живут (2016 г.) в Псковской обл. Предпоследнее место в рейтинге бедности заняла Республика Дагестан. Третью строчку с конца занимает Ивановская обл.1 При оценке роли этого фактора необходимо учитывать сложность определения истинной бедности на Северном Кавказе с учетом высокого уровня «теневой экономики».
-
4. Отставание качества жизни в республиках Северного Кавказа от среднероссийского . Данный фактор по-прежнему сохраняется. В рейтинге качества жизни в регионах за 2012–2014 гг. позиции заметно улучшились только у Ставропольского края (перемещение с 37-й позиции на 29-ю). Из республик наиболее высокая позиция с небольшим улучшением у РСО – Алании (63-я); у Дагестана – 71-я (ухудшение), у Кабардино-Балкарии – 72-я (незначительное улучшение), у Чеченской Республики – 78-я (нет предыдущих данных), у Карачаево-Черкесии – 79-я (незначительное ухудшение), у Ингушетии – 80-я (без динамики). Замыкают рейтинг не северокавказские республики, а Алтай, Калмыкия, Тыва2. При оценке роли этого фактора важно принять во внимание возможные большие погрешности из-за объема теневых доходов и услуг в Северо-Кавказском регионе (по некоторым отраслям – до 80%).
-
5. Высокий уровень безработицы . Действие этого фактора уменьшилось. Уровень безработицы по СКФО снизился с 16,5% (2010 г.) до 10,2% (2015 г.). Тем не менее он остается самым высоким в стране. Рост доли безработных в 2016 г. характерен для республики Ингушетия – здесь этот показатель достигает 29%3. Однако при оценке роли этого фактора также возможны большие погрешности из-за занятости в теневом секторе.
-
6. Масштабы коррупции. Рассматриваемый фактор по-прежнему действует. Бывший глава президентской администрации Сергей Иванов заявил, что по уровню коррупции в России продолжает лидировать Северный Кавказ4. Однако коррупция на Северном Кавказе ничем принципиально не отличается от других регионов, и борьба с коррупцией в СКФО не может быть эффективной в отдельно взятом регионе.
-
7. Крайне низкая эффективность региональных органов власти . Действие этого фактора также сохраняется. Но эта проблема не является специфическим северокавказским явлением и характерна для большинства регионов и федеральных органов власти.
-
8. Этноклановость . Действие этого фактора сохраняется с тенденцией к усилению, чему способствуют реализуемые в регионе экономические проекты (аграрное производство, туризм, строительство, сфера услуг, т.е. отрасли, в которых во всем мире доминирует семейный бизнес). Преодолеть эту тенденцию можно только путем реиндустриализации региона на современной технологической основе. Важно принять во внимание, что клановость, непотизм и другие проявления непрозрачности во власти и в ведении бизнеса свойственны всей России. Специфика Северного Кавказа – этнический компонент.
-
9. Преступная деятельность бандподполья . Действие этого фактора уменьшилось вследствие эффективных действий силовиков и «зачистки» региона перед Олимпиадой 2014 г. Фактически разгромлен «Имарат Кавказ».
-
10. Экстремизм, «который нам поставляется из-за рубежа». Значимость этого фактора резко возросла по причине разрастания геополитической борьбы по всему геополитическому региону «Прикаспий – Причерноморье – Кавказ – Ближний Восток – Средиземноморье».
Таким образом, во-первых, все факторы напряженности в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений на Северном Кавказе, продуцирования и репродуцирования экстремизма и терроризма сохраняют свое действие, хотя изменилась интенсивность их влияния и иерархия. Во-вторых, большая часть рассмотренных факторов непосредственно связаны с человеческим капиталом как ресурсным фактором развития региона. Несмотря на то что не удалось переломить экономическую ситуацию на Северном Кавказе, официальные показатели свидетельствуют о некотором улучшении в сфере занятости, что всегда рассматривалось на официальном уровне как важнейший фактор стабилизации. Мы же неоднократно подчеркивали, что, будучи бесспорным фактором улучшения качества человеческого капитала, рост занятости не является ключевым для снижения напряженности. Северному Кавказу необходимо не просто экономическое развитие, а реиндустриализация и ремодернизация всего региона, которая и должна рассматриваться как инструмент кардинального изменения обстановки. Причем модернизация региона критически важна для сохранения Северного Кавказа в российском цивилизационном пространстве [Авксентьев 2013].
Эти выводы были сделаны нами в период «тучных» лет, когда Россия имела финансовые возможности для начала широкомасштабной модернизации. Но этого не произошло, и сегодня воспроизводить тезис о модернизационном проекте для Северного Кавказа, по меньшей мере, неактуально. Эта линия обрела государственные очертания. «Доминирующую роль в ведении бизнеса и дальнейшем развитии региона будут играть не крупные предприятия и проекты (хотя и такие у нас есть), а проекты того масштаба, где вы сегодня ведете свой бизнес. Через такое взаимодействие мы можем добиться максимального социального и экономического эффекта», – отметил министр РФ по делам Северного Кавказа Л. Кузнецов1.
Тем не менее общественное сознание страны настроено на модернизацию. На Северном Кавказе преобладают традиционалистские настроения (особенно в восточной части региона), и это одно из наиболее глубинных социокультурных противоречий, которое сложилось между Северным Кавказом и остальной частью России. Более того, традиционализм стал ориентацией, которую поддерживают власти региона. Особенно активна в этом направлении гуманитарная интеллигенция, для которой традиционализм стал основой сохранения социального статуса. Но все это вторично по отношению к тому, что после распада СССР возродились архаичные формы экономики, которые, однако, позволили многим семьям выжить в 1990-е гг.
В то же время на «русских» территориях Юга России сохранилась часть современных предприятий, а главное, сохранились модернизационные устремления населения и молодежи. В период финансового благополучия в эти регионы, особенно в Краснодарский край и Ростовскую обл., был направлен значительный поток инвестиций. Возникли не просто экономические диспропорции – возник заметный социокультурный раскол между этнически русскими и этнически нерусскими территориями. Русские территории – это сохранившиеся очаги модернизации, а нерусские – это территория архаизации. Даже в условиях начавшегося финансово-экономического кризиса Краснодарский край, Ростовская обл. по-прежнему ориентированы на инвестиционные проекты, развитие современных производств.
Человеческий капитал Юга как фактор динамики региональной ситуации
Итак, как уже отмечалось, человеческий капитал, его характеристики и направленность изменений являются определяющими в развитии СевероКавказского макрорегиона. С другой стороны, сложная этноконфессиональная структура республик Северного Кавказа и Ставрополья, историческое наследие, относительная, а местами и абсолютная трудоизбыточность являются питательной почвой для разрастания социальных проблем, конфликтов, деструктивных настроений. В этом контексте важно проследить причинно-следственные связи между социальной реальностью и негативными тенденциями, которые напрямую связаны с человеческим капиталом, т.е. требуется осмысление феномена «человеческий капитал» с точки зрения возможной его радикализации и активного вовлечения в террористическую деятельность.
Что же представляет собой человеческий капитал в контексте региональной социально-экономической и этнополитической ситуации? Рассмотрим эту проблему на примере Ставропольского края, которому при создании СевероКавказского федерального округа отводилась роль «экономического локомотива» и которая оказалась нереализованной. Согласно результатам исследования, проведенного в крае1, почти 70% респондентов – это так называемый предсред-ний класс (по терминологии экспертов Национального агентства финансовых исследований), которому денег хватает в основном на товары первой необходимости, или бедняки, балансирующие на грани бедности и малообеспеченности (по терминологии ученых Института социологии РАН).
Однако вне зависимости от терминологии следует говорить о том, что самым многочисленным социальным слоем в регионе является низкообеспеченный слой. Это означает, что для человека, чей доход обеспечивает лишь базовые потребности (питание, одежда), становятся труднодоступными современное качественное образование, в т.ч. и профессиональное (по данным исследования, не могут удовлетворить свои потребности в качественном образовании 59,6%), что особенно недопустимо, когда в центре государственной экономической политики стоит развитие малого бизнеса.
Примечательным в данном контексте является и обобщенная характеристика регионального бедняка. Более двух третей (71,3%) ставропольчан, входящих в группу бедных, составляют работники сельского хозяйства, строительства, торговли и бюджетники (работники образования, здравоохранения и социального обслуживания). Наивысшая концентрация бедности среди молодежи сосредоточена опять же в сельской местности: здесь проживает треть молодых людей (до 30 лет), находящихся за гранью или на грани бедности.
Именно это обстоятельство позволило мировому социологическому сообществу говорить о появлении в современном российском обществе несвойственного для развитого мира феномена «работающей бедности». В Западной Европе индивид, имеющий легальную заработную плату, не может попасть в социальную группу ниже, чем «малообеспеченная». Согласно опросу «Евробарометр-40: бедность и социальная эксклюзия», по мнению большинства жителей европейских стран, основная причина бедности – сам человек: это или алкоголизм (57,2%), или наркотики (57,0%), или «длительная безработица» (54,1%)1.
С точки же зрения ставропольчан, главные причины бедности – низкая зарплата (65,1%), недостаточность государственных пособий по социальному обеспечению (37,2%), невыплата зарплаты (34,4%). Примечательно, что для европейцев вариант ответа «невыплата зарплаты» отсутствовал как немыслимый.
Результаты нашего исследования коррелируют с официальными статистическими данными. Сохраняется отставание качества жизни в Северо-Кавказском федеральном округе от среднероссийского. Произошла консервация невысокого уровня жизни значительной части населения, низкого качества жизненных стандартов населения, особенно если судить по европейским стандартам, что указывает на низкий уровень потребительской части человеческого капитала, а следовательно на его материальное изнашивание.
Современная экономическая ситуация в СКФО, как показывает социальная практика [Гриценко 2015: 98-99], по-прежнему характеризуется низким уровнем промышленного производства. Начавшийся финансово-экономический кризис не только ставит под сомнение дальнейшие экономические преобразования на Северном Кавказе, но и повлечет ухудшение материального положения людей и снижение качества человеческого капитала.
Утрата социально-экономического статуса значительной частью населения приводит к появлению маргинального слоя, представители которого чаще всего не могут адекватно оценить свое положение в обществе. В психологии такое состояние определяется как пограничное, свидетельствующее о деструктивном изменении эмоционального компонента так называемой я-концепции, на основе которой строится взаимодействие личности с обществом2. У человека, особенно молодого, оказавшегося в данной ситуации, может наблюдаться необратимая выраженность свойств, препятствующих его адекватной адаптации к изменившейся социальной среде. Под влиянием стрессовой ситуации у отдельных личностей могут наблюдаться психопатические проявления – крайняя раздражительность, доходящая до приступов неудержимой ярости, периодические расстройства настроения (тоска, страх, гнев). Так расширяется база для распространения радикализма и экстремизма, для вербовки в террористические организации.
Проблемы нестабильности и напряженности на Северном Кавказе не только, а возможно, не столько в бедности или безработице, сколько в исключительной трудности реализовать жизненные стратегии. Известно, что среди тех, кто «ушел в леса или горы», немало отнюдь не бедных людей, выходцев из благополучных семей, студентов престижных вузов или молодых людей, уже имеющих хорошее высшее образование. Несмотря на многочисленные призывы развивать малый и средний бизнес, на Северном Кавказе открыть и вести свое производство крайне трудно. Так, директор региональной программы Независимого института социальной политики Н. Зубаревич, говоря о Дагестане, отметила, что в этом регионе для предприятий малого бизнеса существуют запредельно сложные условия1. Это можно сказать и о других республиках Северного Кавказа. Причина все та же – коррупция, низкая эффективность власти, консервация этноклановых отношений, экономическая архаика.
Существенное значение для реализации жизненных стратегий имеет экономическая активность трудоспособного населения, или производственная характеристика человеческого капитала. Для основной массы ставропольчан главным источником дохода является работа. При этом происходит снижение производственной квалификации и девальвация профессиональных ориентиров у значительной части работников: 46,5% респондентов-ставропольчан работают в сфере, не соответствующей профилю их профессионального образования, 32,5% – в сфере, не соответствующей уровню их квалификации; 83,6% участников опроса совсем не принимают участия в обсуждении управленческих решений, не касающихся их лично или их подразделения; 94,5% не занимаются самообразованием в сфере трудовой занятости; 97,1% не проходили производственную подготовку непосредственно по профилю своей нынешней работы. Таким образом, для преобладающей части населения не свойственно активное экономическое поведение. Результаты исследований констатируют постепенное обесценивание производственных характеристик человеческого капитала, его профессиональное «изнашивание».
Такая ситуация во многом формирует пессимистические взгляды на будущее страны, региона и собственное будущее. Так, по результатам опроса жителей Ставропольского края 70,9% респондентов не надеются на улучшение своего материального положения; 68,1% не уверены в том, что не потеряют свою работу, не попадут в когорту безработных; 40,5% обеспокоены будущим своих детей; 33,4% испытывают неуверенность в осуществлении жизненных планов, ощущают неясность собственного будущего. Более 40% жителей Ставрополья убеждены в том, что в ближайшие 2–3 года социально-экономическое положение в их регионе ухудшится. Приведенные данные исследования указывают не только на производственное и потребительское изнашивание человеческого капитала, но и на моральное. Таким образом, мы имеем резкое снижение качества основных характеристик человеческого капитала, что потенциально не может не сказаться на динамике не только региональной социально-экономической но и этнополитической, социокультурной, этноконфессиональной и иной ситуации.
В связи с распространением пессимистических настроений в общественном сознании у некоторых людей на первый план выходит мотив психологической ущербности, что ведет к потребности в гиперкомпенсации2. Такие личности легко подвергаются психологической обработке идейными руководителями террористических организаций, которые умело используют различные рычаги манипуляц ии. К каждому подбирается свой ключ, делается акцент на самом
«больном» месте, используются меркантильные, идеологические мотивы, расписываются неземные блаженства рая за земные «подвиги» и т.д.
Кроме того, имеющаяся «моральная изношенность» человеческого капитала, дополненная производственной (предпринимательской) незрелостью, проявляется и в приемлемости для людей добиваться своих целей обманом, взятками, воровством, уходом в теневую экономику. Например, более половины респондентов считают допустимой ситуацию, при которой их друг может уклоняться от уплаты налогов; около трети всех участников опроса положительно оценивают ситуацию, при которой человек, совершивший экономические или финансовые преступления, может быть их другом. Современная рыночная система создает условия для незаконного обогащения, особенно для тех, кто активен, настойчив, упрям, способен на действия, выходящие за рамки закона. Если к этому прибавляется эгоизм и чрезвычайная требовательность, готовность все критиковать и склонность к «сверхценным» идеям, то с точки зрения современной психологии1 появляется личность, которая может стать легкой мишенью для вербовки различными террористическими и рядящимися под миссионерство организациями.
Кроме того, радикальный ислам предлагает альтернативный вариант жизнеустройства. Гипертрофированное религиозное возрождение, начавшееся с середины 1990-х гг. и ставшее важной составной частью архаизации Северного Кавказа, обусловило тот факт, что религия начала играть несвойственную для современного общества роль. Сложности в региональную ситуацию добавило появление и распространение нетрадиционных для Северо-Кавказского региона течений в исламе – ваххабизма, салафизма, которые направили свой удар прежде всего против «традиционного», или «народного» ислама на Северном Кавказе. Юг России стал региональным проявлением конфликта цивилизаций по линии «современность – традиционность».
Именно этот конфликт, являющийся по своей сути глобальным конфликтом идентичностей, выступает в качестве важнейшего фактора воспроизводства экстремизма и терроризма на Юге России и объясняет тот факт, что экономическое положение в республиках Северного Кавказа хотя и сложное, но по многим параметрам не худшее в стране, но, тем не менее, именно этот регион является ресурсом пополнения бандподполья в России и на Ближнем Востоке. Глубина этого конфликта неравномерна в различных территориях Юга России. Наиболее далеко процесс демодернизации, ретрадиционализации и клерикализации всех сторон жизни общества зашел в трех республиках Северного Кавказа – Дагестане, Чечне и Ингушетии. И, как итог данной ситуации, выходцы из этих республик, особенно молодежь, оказываются вовлеченными в локальные конфликты с этническим компонентом.
Сегодня самая большая проблема – это даже не те 600–900 боевиков, находящихся в лесах и горах Северного Кавказа, а большой социальный слой сочувствующих, среди которых много воспитанных в новой религиозности молодых людей. Не обладая достаточным жизненным опытом, имея романтизированные представления о социальной справедливости, молодые люди становятся жертвой «ловцов душ» – в недавнем прошлом для Имарата Кавказ, а в последние два года – для Исламского государства, деятельность которых запрещена в России.
Мы пожинаем плоды той политики по поощрению, если не сказать насаждению, религиозности, которая проводилась в постсоветский период. Были допущены два стратегических просчета. Первый: считалось, что демонстративное поощрение православия сдержит распространение радикального ислама; второй: предполагалось, что люди пойдут в официально предписанные религии. А полу- чилось с точностью до наоборот. Люди пошли в религию, но зачастую совсем не в ту, которую принято называть традиционной. И это касается не только ислама, но и православной части населения.
Обращение к религиозной риторике позволяет радикалам объявить «неверным» любого мусульманина, работающего в российских государственных структурах, или просто лояльного российского гражданина. Например, по их логике, мусульманин, соблюдающий российское законодательство, – многобожец, т.к. Аллах послал только один закон – шариат; соблюдать другой закон – это признать, что есть еще кто-то или что-то, равное Аллаху. Анализ социальных сетей и знакомство с содержанием многих сайтов показывает, как исламская религиозная риторика увлекает молодежь, какие тонкости вероучения обсуждают молодые люди. Эту увлеченность религией искусно используют вербовщики, обещая жизнь в справедливом обществе, построенном на исламских принципах.
Поддержка государством так называемого традиционного ислама также далеко не всегда работает против радикалов. «Очень тесно связанный с государством исламский официоз тем и плох, что он связан с властями. Там мало харизматичных молодых людей, эти люди малограмотны, им зачастую не хватает качественной богословской подготовки, поскольку у нас выбивали любую грамотную религиозную элиту, в том числе и исламскую, в течение всего советского периода. Остались еще засевшие в глубоком подполье суфии, которые современного молодого человека тоже не сильно вдохновляют», – считает Е. Сатановский1. Это высказывание может служить объяснением и того, почему «этнически православная» часть населения Северного Кавказа, и в первую очередь молодежь, увлеклась «новыми религиозными движениями». Молодые люди потянулась в родноверы, активизировались «Свидетели Иеговы» и многие другие течения.
В данном контексте следует говорить и о нарастании рисков, обусловленных возвращением на Северный Кавказ боевиков, воевавших на стороне ИГ на Ближнем Востоке.
Стала очевидной и другая угроза – распространение влияния идеологии ИГ через социальные сети. Происходит формирование «виртуального» ИГ, причем не только в смысле использования информационно-компьютерных технологий, но и в аспекте возникновения широкого слоя сочувствующих, следящих за событиями, связанными с ИГ, без личного участия в его деятельности. Сам факт существования таких образований выступает в роли аттрактора для радикально настроенной молодежи. Неспособность государства (или международного сообщества) справиться с ними повышает привлекательность и романтизирует их деятельность.
Итак, сохранение обозначенных высшим руководством страны в 2009 г. факторов напряженности, хотя и в несколько изменившейся иерархии, ведет к продуцированию и репродуцированию экстремизма и терроризма на Северном Кавказе, снижению возможностей для реиндустриализации и ремодернизации экономики в этом регионе. Негативная динамика региональной ситуации усугубляется снижением качества человеческого капитала, а именно его производственной изношенностью, девальвацией профессиональных ценностей, потребительской незрелостностью, духовным обнищанием и моральной деградацией. Это проявляется в наличии в трудовых ресурсах «работающей бедности», экономической пассивности трудоспособного населения, в низком «запасе духовной прочности». В результате происходит формирование дополнительных социально-психологических, эмоционально-субъективных условий, с одной стороны, для стагнации региональной экономики, с другой – для распространения в регионе экстремистско-радикальных, террористических настроений.
Таким образом, для обеспечения положительной динамики региональной ситуации на Северном Кавказе необходимо также создание благоприятных условий для развития человеческого капитала как одного из главных факторов перехода Северо-Кавказского региона на умеренный конфликтологический сценарий развития.
Публикация подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований президиума РАН № 13 «Пространственное развитие России в XXI веке: природа, общество и их взаимодействие. Проблемы развития полиэтничного макрорегиона в условиях дестабилизации Каспийско-Черноморского зарубежья».
Список литературы Факторный анализ динамики региональной ситуации на Северном Кавказе через призму человеческого капитала
- Авксентьев В.А., Гриценко Г.Д., Дмитриев А.В., Зинев С.Н., Майборода Э.Т. 2009. Конфликтный регион: экспертное мнение. -Вестник Южного научного центра РАН. Т. 5. № 3. С. 15-21
- Авксентьев В.А. Гриценко Г.Д., Дмитриев А.В. 2011. Юг России в современной российской политике: взгляд конфликтолога. -Россия реформирующаяся. № 10. С. 552-561
- Авксентьев В.А. 2013. Этнополитический выбор России и проблемы Северного Кавказа. -Куда пойдет Россия: новые возможности и ограничения современного развития (отв. ред. Л.И. Никовская). М.: Ключ-С. С. 150-159
- Авксентьев В.А., Васильченко В.А., Маслова Т.Ф., Лепилкина О.И. 2014. Этнополитические основания системного менеджмента на Северном Кавказе. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН. 274 с
- Авксентьев В.А., Гриценко Г.Д. 2016. Этнополитическая ситуация на Северном Кавказе: экспертная оценка. -Социс. Социологические исследования. № 1. С. 93-100
- Гриценко Г.Д. 2015. Сценарии социально-экономического развития степных районов «русских» территорий на Юге России. -Проблемы полиэтничного макрорегиона в условиях дестабилизации Каспийско-Черноморского зарубежья. Материалы всероссийской научной конференции. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН. С. 96-101