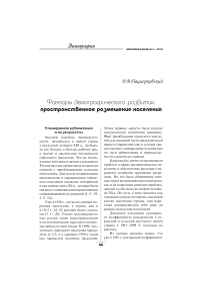Факторы демографического развития: пространственное размещение населения
Автор: Пациорковский Валерий Валентинович
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Демография
Статья в выпуске: 4 (50), 2010 года.
Бесплатный доступ
В работе рассматривается влияние фактора пространственной организации общества (размещения населения) на демографическое развитие. Теоретические основания статьи связаны с обоснованием единства сельско-городского континуума, в котором функция воспроизводства населения преимущественно закреплена за сельской местностью. Из признания факта существования такого единства вытекают весьма важные для демографического развития ограничения на процессы урбанизации и сокращения численности сельского населения. Достижение уровня естественного минимума означает полную утрату сельским сообществом способности к воспроизводству и нарастающую потребность повторного заселения территории.
Воспроизводство населения, депопуляция, демографическое развитие, пространственная организация общества, сельско-городской континуум, естественный минимум сельского населения
Короткий адрес: https://sciup.org/14347324
IDR: 14347324
Текст научной статьи Факторы демографического развития: пространственное размещение населения
Быстрое развитие промышленности, начавшееся в нашей стране в последней четверти XIX в., требовало все больше и больше рабочих рук, а значит и увеличения численности городского населения. Тем не менее, в конце того века и начале следующего Россия все еще продолжала оставаться страной с преобладающим сельским населением. Для целей модернизации производства и наращивания городского населения оказалась потерянной и вся первая треть XX в., которая была связана с социальными потрясениями и сопровождавшей их разрухой [1. С. 95, 2. С. 16].
Еще в 1926 г., согласно данным переписи населения, в стране, как и в 1913 г., 82,1% россиян были селянами [3. С. 20]. Только целенаправленные усилия эпохи индустриализации и коллективизации народного хозяйства принесли свои плоды. К 1940 г. численность городского населения перевалила за 1/3, а к середине 1950-х годов она превысила половину населения.
Этому первому «кресту» было уделено идеологически позитивное внимание. Факт преобладания городского населения для основной части представителей науки и управления еще и сегодня свидетельствует о выверенности движения по пути урбанизации и принадлежности к развитым странам.
Казалось бы, ничто не предвещало проблем в сфере воспроизводства населения и обеспечения растущего народного хозяйства трудовыми ресурсами. Но это было обманчивое затишье перед возникновением огромных, так и не нашедших решения проблем, давших о себе знать во второй половине XX в. По сути, к тому моменту как горожане начали составлять основной костяк населения страны, они перестали воспроизводить себя даже до уровня замещения поколений.
Динамика изменения суммарного коэффициента рождаемости в городской и сельской местности нашей страны в 1961–2008 гг. показана на рисунке.
Из данных рисунка видно, что уже в 1961 г. суммарный коэффициент
Годы
—а— Городское население
■ Сельское население
Рисунок. Суммарный коэффициент рождаемости городского и сельского населения России в 1961–2008 гг. [1. С.95].
рождаемости городского населения был ниже уровня простого воспроизводства. Для поддержания режима замещения поколений необходимо, чтобы в каждом поколении в среднем было 2,16 ребенка, рожденных одной женщиной в репродуктивном возрасте. В то же время в сельской местности режим расширенного воспроизводства сохранялся вплоть до 1992 г. При этом удельный вес горожан в 1959 г. составлял 52,4%, а в 2008 г. – 73,1% всего населения страны [1. С. 24]. Огромные возможности для самореализации и почти полностью искусственная среда крупных городов оказывают не самое благоприятное влияние на мотивацию семьи, брака и детности. В конкретных условиях нашей страны даже вчерашние селяне, попав из больших деревенских изб в заводские общежития, коммунальные и малогабаритные городские квартиры, очень быстро изменили свое репродуктивное поведение.
На стимулирование переезда селян в город в рассматриваемый период большое влияние оказывала последовательная, проводимая в стране в течение многих лет, социально-экономическая политика. Решалась указанная задача разными путями с использованием мер как «кнута», так и «пряника». Среди таких мер в первую очередь можно отметить: нарастание разрыва в условиях труда, быта и жизни городского и сельского населения, возможность быстрого получения жилья в городе, всеобщую воинскую повинность, вымывавшую и продолжающую вымывать мужчин из села, пропаганду ценностей привлекательности и успешности городской жизни.
Все это делалось в условиях, когда, как отмечалось уже ранее, к середине 1950-х годов горожане составили более половины населения страны. Учитывая этот факт, равно как и то, что они не воспроизводят себя, надо было уже тогда начать как минимум ограничивать рост городского населения. А как максимум – стимулировать рождаемость и поддержание численности сельского населения на уровне, составляющем около половины населения страны.
Для этого следовало поощрять селян оставаться в деревне, развивая ее инженерную и социальную инфраструктуру, а также создавая благоприятные условия для индивидуального жилищного строительства и ведения хозяйства. За рамками доминировавших догм и идеологических представлений трудно понять, как, владея приведенными данными, можно было проводить в полном смысле губительную даже на ближайшую перспективу демографическую политику.
«Депопуляционные тенденции в России просматривались еще с 1960-х годов, когда отрицательный естественный прирост стал характерной чертой вначале сельского, а затем и городского населения Центра России. Естественная убыль сельского населения была вызвана сильным миграционным оттоком молодежи из села, что какое-то время поддерживало потенциал роста городского населения, несмотря на низкую интенсивность деторождения в городах» [4. С. 57].
Справедливости ради следует отметить, что в сельской местности устойчиво выше не только рождаемость, но и смертность [1. С. 187–188]. При этом, однако, полезно помнить, что в то время как рождаемость характеризует демографическое развитие прямым и непосредственным образом, смертность представляет собой показатель, скорее характеризующий условия жизни населения и состояние медицинского обслуживания, т.е. всего того, что сегодня связывается с термином «сбережение населения». Если бы в сельскую местность была вложена хотя бы маленькая толика того, что вложено в города, то и смертность на селе была бы заметно ниже.
Расчеты показывают, что в сложившихся условиях воспроизводства для поддержания демографического развития крупного города или городского населения численностью около 1 млн человек в сельской местности должно проживать примерно столько же с суммарным коэффициентом рождаемости 2,6–2,9 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста. Такой режим воспроизводства сохранялся в сельской местности страны еще в 1980–1985 гг.
И сегодня очень ослабленная сельская местность все еще проявляет б о льшую чувствительность и отзывчивость в ответ на мероприятия, направленные на повышение рождаемости. Как видно на рисунке, в 2008 г. суммарный коэффициент рождаемости городского населения составил 1,4, а сельского – 1,9 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста.
Приведенные выше значения суммарных коэффициентов рождаемости свидетельствуют о пока еще заметном ее превышении в сельской местности. В принципе, глядя на рисунок, можно сказать, что во времени этот разрыв сокращается. Но надо быть очень наивными исследователями и управленцами, если обосновывать возможность его минимизации на уровнях рождаемости, характерных или близких для городского населения.
Отсюда вполне корректен вывод, что в решении задач, связанных с демографическим развитием, ставка должна делаться на село и растущую численность сельского населения. А это значит, что социально-экономическую политику необходимо направить на развитие сельской местности, повышение ее привлекательности для закрепления в ней населения.
Традиционно проблемы территориального развития, прежде всего роста числа городов и численности их населения, было принято решать за счет сельской местности. Однако, как оказалось, это можно делать только при условии расширенного воспроизводства в ней населения. Это, на первый взгляд очевидное обстоятельство, не принималось во внимание до тех пор, пока депопуляция во многих развитых странах не заявила о себе во весь голос.
Организации жизни, созданной на основе промышленного производства, понадобилось максимум 1,5–2 века для того, чтобы уничтожить сельское домохозяйство, урбанизировать огромные территории и загнать в тупик воспроизводство населения в странах, вставших на путь индустриального развития. Сегодня совершенно ясно, что проблемы демографического развития нельзя решить на путях дальнейшей модернизации (в ее понимании в терминах индустриального общества) или посредством движения по пути контрмодернизации, связанной с отказом от перемен, порожденных новыми условиями жизни.
Основная проблема состоит в том, что люди в качестве социально-биологических существ не могут воспроизводить себя в условиях индустриального общества и высоко урбанизированной среды. Эти условия необходимо изменить как можно скорее. Возврат к домохозяйству, его исконной производственной функции может рассмат- риваться в качестве одного из приоритетов требуемых перемен.
Для решения задач, связанных с ограничением домашнего производства, которое выступало в качестве основного препятствия на пути индустриализации и концентрации рабочей силы в городах, государство широко использовало как экономические, так и административные меры. Сегодня, когда пришла пора признания домохозяйства в качестве равноправного (минимум – в экономическом отношении) партнера, эти проблемы решаются сами. Дальнейшее сохранение такого положения вещей вряд ли продуктивно.
Основные принципы пространственной организации общества
Исходя из признания фундаментальной значимости существования сельско-городского континуума, ниже сформулировано несколько общих принципов, позволяющих учесть в социально-экономической политике особенности влияния пространственной организации общества на воспроизводство человека. Эти принципы можно изложить следующим образом.
Первое. Природа пространственной организации общества такова, что при разделении функций между городом и деревней основные механизмы и обязательства воспроизводства человека оказались связанными с селом и сельской местностью.
Второе. Экономическое принуждение и социальное отчуждение ведут к глубокому снижению численности сельского населения любого территориального сообщества (региона). С нарастанием указанного процесса с определенного момента одновременно начинает сокращаться и чис- ленность городского населения, в первую очередь поселков городского типа и малых городов.
Третье . Начало падения численности городского населения говорит об установлении естественного минимума сельского населения. При его достижении только репрессии могут снизить численность сельского населения до ее величины, близкой к нулю.
Четвертое . Между точкой естественного минимума и начальным этапом депопуляции существует интервал глубокого снижения численности сельского населения, проходя который сельская популяция постепенно утрачивает способность к воспроизводству.
Пятое . Достижение уровня естественного минимума означает полную утрату сельским сообществом способности к воспроизводству и нарастающую потребность повторного заселения территории путем механического движения населения (миграции). Фактически описанное положение дел по своим характеристикам близко к анабиозу всей популяции, т.е. к состоянию, внешне похожему на вымирание не только сельского, но и коренного городского населения.
Из сформулированных выше принципов с неизбежностью следует ряд выводов.
-
■ Разрушая село, мы разрушаем основы существования общества. Значимость села и сельской местности не может быть сведена к эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного производства или каких-либо иных видов хозяйственной деятельности.
-
■ Людная сельская местность — надежная гарантия демографического развития любой территориальной общности, страны или региона.
-
■ Задача социально-экономической политики, во-первых, способствовать поддержанию численности сельского сообщества на уровне, превышающем пороговые значения ее глубокого снижения, во-вторых, немедленно и в экстренном порядке реагировать на малейшие проявления движения сельского сообщества к состоянию естественного минимума.
-
■ Основной инструмент такого реагирования – повторное заселение сельской местности. При этом общество неизбежно оказывается перед необходимостью огромных затрат человеческого капитала, материальных и финансовых ресурсов, направленных на поддержание преференций и бонусов для формирования волн новых переселенцев в сельскую местность.
-
■ Тот, кто сегодня отказывается заселять сельскую местность (периферию), завтра вынужден будет заселять города (центр).
В условиях низкого уровня репродуктивности поддержание удельного веса селян на уровне 30-40% общей численности населения служит одним из надежных индикаторов возможностей и перспектив демографического развития той или иной территориальной общности. В случаях сокращения удельного веса сельского населения до 25% и ниже драма депопуляции становится практически неизбежной. Этот процесс сегодня можно наблюдать в первую очередь в Ивановской, Мурманской и Ярославской областях, а также в республиках Карелия и Коми. Конечно, постоянное ограничение по ресурсам, равно как и имеющие широкое хождение теории урбанизации и демографического перехода, подталкивают управленцев долгое время не принимать во внимание сокращение численности сельского на- селения. Полезно, правда, помнить, что повторное ее заселение потребует много больше затрат сил и средств.
Депопуляцияв отдельных регионах России
Если сформулированные выше правила корректны, то не заглядывая в сборники статистических данных, можно с высокой долей вероятности утверждать, что в наблюдаемый период Мурманская область, например, теряет уже не только сельское, но и городское население. Основание такого предположения составляет тот факт, что удельный вес сельского населения области уже много лет держится на уровне около 8,8% общей численности. Данные статистики подтверждают самые худшие предположения. С достигнутого в 1989 г. максимума в 1146,8 тыс. человек [5. С. 14] общая численность населения в Мурманской области снизилась к 2009 г. более чем на 300 тыс. – до 842,5 тыс. человек [6. С. 169].
Все эти потери приходятся на городское население, поскольку доля сельского населения в области еще в 1959 г. была сведена к естественному минимуму и составляла 8,6% [5. С. 14, 6. С. 27, 7. С. 87]. Это значит, что решение задач дальнейшего сокращения численности сельского населения области уже нельзя достигнуть методами экономического принуждения и социальной отверженности. В былые времена в таких случаях и приходил черед использования репрессий. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня. Но и механизмы поощрения к жизни в сельской местности не работают.
Динамика изменения удельного веса городского и сельского населения Мурманской области в 1990– 2009 гг. [8] показывает, что огром- ные изменения численности населения области в наблюдаемый период практически не находят отражение в структуре сельско-городского расселения. Это обстоятельство и свидетельствует о разрушении его основ и нарастающей потребности повторного заселения сельской местности. Если в области численность сельского населения когда-то и превышала численность жителей городов, то это было за много лет до 1959 г. Значит, свой первый «крест» (численное преобладание городского населения) и свой второй – «русский крест» (превышение смертности над рождаемостью) [9] Мурманская область прошла много раньше, чем страна в целом.
Естественный минимум сельского населения, скорее всего, имеет свои значения для различных территориальных общностей. При его расчете необходимо принимать во внимание не столько уровень экономического развития и хозяйственную специализацию региона, сколько численность в нем коренного населения в целом и живущего в сельской местности – в особенности. Например, вполне возможно, что для Республики Коми он в 2 раза выше, чем для Мурманской области, и составляет 15–17% населения региона.
В таблице приведен перечень регионов, подошедших к естественному минимуму сельского населения. В ней регионы представлены в порядке нарастания значения естественного минимума к 2009 г. Для понимания существа рассматриваемого показателя хорошими примерами служат Югра и Мурманская область. В них удельный вес сельского населения практически остается неизменным с 1989 г.
В Мурманской области, например, в 1989 г. численность сельско-
Таблица
Динамика движения субъектов федерации в 1959–2009 гг. к естественному минимуму сельского населения, %
|
Регионы |
1959 г. |
1970 г. |
1979 г. |
1989 г. |
2002 г. |
2009 г. |
|
Магаданская обл. |
19,0 |
25,2 |
21,8 |
19,0 |
7,7 |
4,7 |
|
Югра |
73,0 |
37,1 |
21,7 |
9,1 |
9,1 |
8,5 |
|
Мурманская обл. |
7,9 |
11,4 |
10,6 |
7,9 |
7,8 |
8,8 |
|
Кемеровская обл. |
22,9 |
17,7 |
13,4 |
12,6 |
13,7 |
15,1 |
|
Ямало-Ненецкий авт. округ |
65,0 |
57,1 |
49,4 |
23,0 |
16,6 |
15,1 |
|
Свердловская обл. |
24,0 |
19,3 |
15,0 |
13,0 |
12,1 |
16,6 |
|
Ярославская обл. |
41,7 |
30,0 |
22,2 |
18,4 |
19,1 |
18,2 |
|
Челябинская обл. |
23,6 |
22,1 |
18,6 |
17,5 |
18,2 |
18,6 |
|
Самарская обл. |
38,1 |
28,4 |
22,9 |
19,2 |
19,4 |
19,4 |
|
Ивановская обл. |
33,6 |
24,6 |
20,3 |
18,4 |
17,3 |
19,2 |
|
Московская обл. |
42,3 |
31,3 |
25,4 |
20,7 |
20,7 |
19,2 |
Источники: Численность населения РСФСР. М.: Госкомстат РСФСР, 1990. С. 14—24; Численность и размещение населения. Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. Т. 1. М.: ФСГС, 2003. С. 10–283; Численность населения Российской Федерации по городам, поселкам городского типа и районам на 1 января 2009 г. М.: ФСГС, 2009. С. 27–29.
го населения составляла 90,5 тыс., в 2002 г. – 69,3 тыс., а в 2009 г. – 73,9 тыс. человек [5. С. 14, 6. С. 27, 7. С. 87]. Самый большой разрыв в значениях естественного минимума – 4%, который наблюдается в Свердловской области между 2002 г. и 2009 г. Он отражает усилия руководства области по латанию дыр в территориальном развитии путем преобразования большого числа поселков городского типа в сельские населенные пункты.
Как показывают расчеты, людные, сверхиндустриальные Кемеровская, Самарская, Свердловская и Челябинская области подошли к своему естественному минимуму сельского населения около 30 лет назад. Сегодня они уже полным ходом теряют и городское население. В то же время Московская область все еще продолжает наращивать городское население, поэтому здесь естественный минимум сельского еще не устоялся, но, и на это важно обратить внимание, имеет тенденцию к снижению.
В целом в пространственном отношении, как отмечает Д.Лухманов, сельская Россия может быть разделена на 3 типа территорий: депопуляци-онные, средние по численности поселения и крупнонаселенные сельские регионы [10. С. 270–271]. С учетом сказанного драму депопуляции можно наблюдать и во многих других районах нашей страны, например, в Псковской области. Псковская и Тверская области, наряду с Мурманской областью, – пионеры этого процесса в нашей стране. В них впервые было зафиксировано отрицательное сальдо естественного прироста по итогам переписи 1970 г. Затем последовали Курская, Рязанская, Тамбовская и Тульская области (1980 г.), а также Ивановская и Новгородская (1985 г.).
Исторически Псковская область – один из самых древних, ранее наиболее заселенных и развитых регионов нашей страны. Система расселения региона сложилась в Х–ХV вв. Сам Псков впервые упомянут в Новгородской ле- тописи в 903 г. Великие Луки – сверстники Москвы – возникли в 1166 г., Остров ведет свое летоисчисление с 1342 г., Порхов – с 1346 г. и т.д. [11. С. 186]. По одному этому послужному списку еще полвека назад вряд ли кому-нибудь могла прийти в голову мысль, что здесь развернется драма депопуляции.
Анализ изменения численности городского и сельского населения Псковской области за последние 50 лет показывает, что в 1959 г. население области составляло около 1 млн человек. При этом 73% жило в сельской местности [5. С. 15]. Малые города – районные центры – еще до 1989 г. наращивали численность населения за счет окружающей сельской местности. В 1975–1976 гг. при общем спаде численности населения удельный вес селян и горожан сравнялся. К 1979 г. доля горожан выросла, а численность сельского населения быстро пошла на спад. В результате в 2009 г. только 4 из 14 городов смогли сохранить численность населения, достигнутую к 1979 г. «Эти факторы — ключ к пониманию многих процессов в развитии хозяйства области, так как изменение демографической ситуации не было своевременно учтено руководством» [12].
Сегодня население области составляет около 700 тыс. человек. В том числе сельское население равняется немногим более 200 тыс. человек. Таким образом, за прошедшие полвека сельская местность области потеряла 500 тыс. жителей. Теперь городское и сельское население имеют общую направленность к снижению. В течение продолжительного времени в области, как и в других регионах, проблемы территориального развития решались за счет сельской местности. При этом моменту перехода от расширенного воспроизводства населения к сужению его воспроизводственной базы не было уделено соответствующего внимания. Вместе с тем именно данное условие и перестало выполняться в области к 1970 г. В том году естественный прирост принял отрицательные значения и составил -1366 человек [2. С. 150]. Фактически это означает, что Псковская область более чем на 20 лет позже прошла первый «крест» и одновременно на 20 лет раньше прошла свой второй «русский крест».
На примере этой области уже тогда было видно наше ближайшее демографическое будущее, которое и наступило в 1992 г., когда в стране впервые был зафиксирован отрицательный прирост населения [1. С. 66]. Своеобразие Псковской области состоит в том, что в ней преобладание численности городского населения над сельским, а также смертности над рождаемостью практически совпали во времени. Видимо, здесь сельская местность с хорошо вписанными в нее малыми городами просто не выдержала «катка истории», который несколько раз прошелся по ее обитателям в ХХ в.
Справедливости ради следует отметить, что вначале 1980-х годов власти страны, как пишет П.Полян, озабоченные очевидными перспективами сокращения численности населения в ее европейской части, предприняли попытку стимулирования рождаемости посредством «новой» семейной политики. В 1981–1983 гг. текущая интенсивность деторождения действительно повсеместно повысилась. Но затем последовал даже еще более сильный спад. Вторая похожая волна роста пришлась на 1986–1987 гг. [4. С. 55].
Возвращаясь к Псковщине, надо отметить, что в 2008 г. суммарный ко- эффициент рождаемости в области составил 1,4, что заметно ниже уровня замещающего воспроизводства [1. С. 98]. Долгие годы положение дел скрашивало низкое, но положительное сальдо миграции. С 2005 г. в области наблюдается растущий миграционный отток [1. С. 437], а демографическое развитие в ней в полном смысле катится под гору. Псковская область – один из тех случаев, где депопуляция уже давно приняла открытые формы. Отказ от своевременного учета процессов, происходящих в демографическом развитии, теперь потребует больших усилий, связанных фактически с ее повторным заселением.
С учетом сказанного, довольно спорными представляются предложения, связанные с поиском выхода из сложившейся ситуации на путях изменения административнотерриториального деления страны. Такие предложения обосновывают необходимость восстановления Ленинградской области в границах 1930-х годов. Другими словами, предлагается ее слияние с Новгородской и Псковской областями [13]. Подобного рода предложения исходят из предпосылки единства системы расселения и административно-территориального деления. Они как бы наследуют и развивают уже показавшую свою нежизнеспособность идеологию «единого народнохозяйственного комплекса», «единой общесоюзной системы населенных мест» и тому подобных «все-единств», канувших в лету.
Трудно понять, какие стимулы развития при таком повороте событий получат сам Псков, Опочка, Порхов и другие старинные исконно русские малые города, находящиеся в составе Новгородской и Псковской облас- тей. А ведь здесь, в направлении север – юг, от Гдова до Себежа проходит наша граница с «большой» Европой. Может быть, более правильно сформировать в Гдове и Себеже научнообразовательные и производственные комплексы аграрного профиля с ориентацией соответственно на аквакультуру и мелиорацию земель. Такие центры, кстати сказать, могли бы оказаться привлекательными для определенной части русскоязычной молодежи Прибалтики. На указанное обстоятельство необходимо обратить внимание еще и потому, что для многих из них псковская и новгородская земля – родина их родителей, дедов и бабушек, построивших современные Ригу и Таллин.
В свое время перспектива получить малогабаритную квартиру и найти хорошую работу влекла их туда, и они реализовали эту возможность. Вполне может случиться так, что перспектива собственного усадебного жилища и хорошей работы окажется весьма привлекательной для того, чтобы их наследники сделали обратное движение в сторону своей исторической родины. В целом было бы правильно разработать специальную программу развития приграничных территорий. Иначе движение за переход под юрисдикцию сопредельных государств выйдет далеко за пределы Ивангорода [14].
Конечно, региональные власти любого уровня должны стремиться к интеграции соответствующих систем расселении. Вместе с тем они должны понимать, что у систем расселения и административно-территориального деления все же разная природа и разные судьбы. Видимо, можно, но вряд ли нужно приводить административно-территориальное деление в соответствие с тенденциями форми- рования систем расселения. С такой инициативой, кстати сказать, настойчиво выступал бывший столичный мэр Ю.Лужков [15].
В то же время пытаться формировать системы расселения в полном соответствии с административнотерриториальным делением – задача не только заведомо проигрышная, но и ошибочная. При таком подходе во Владимирской, Калужской и Смоленской областях следует вводить ограничения на опережающее развитие районов, граничащих с Московской областью. На практике это значит начать административное регулирование движения труда и капитала. Не приходится сомневаться, что в условиях рыночных отношений разрушительные последствия такого подхода дадут о себе знать очень быстро. К тому же сама постановка данного вопроса противоречит Основному закону страны. В нем с полной определенностью сказано: «На территории Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств» [16. С. 26]. Регионализм – сложное явление. Игнорирование «множества разных факторов, ведущих к появлению и сохранению регионов, является серьезной ошибкой нынешних научных концепций и исследований» [17. С. 150].
Демографическое развитие и миграционная привлекательность
В отличие от Псковской области, в других регионах нашей страны депопуляция еще не так четко выражена, но и там проблемы демографического развития весьма актуальны.
Например, в Белгородской области численность населения все последние годы увеличивается за счет превышения миграционного прироста над естественной убылью [6. С. 43]. В 2008 г. суммарный коэффициент рождаемости в области составил все те же, как и в Псковской области, 1,4 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста [1. С. 96]. Не трудно догадаться, что будет в области с демографическим развитием в случае сокращения миграционного прироста. Правда, в разворачивающейся конкурентной борьбе за мигрантов высокая привлекательность Белгородской области служит надежным признаком ее благополучия. Здесь вряд ли правильно все списывать на тепло и чернозем. У ее ближайших соседей, Воронежской и Курской областей, наблюдается устойчивое превышение естественной убыли населения над его миграционным приростом [6. С. 42]. Еще в прошлом 10-летии в Белгородской области была начата реализация инициативы, связанной со строительством жилья в сельской местности [18]. Возможно, наряду с другими факторами, она и позволяет сегодня иметь положительное сальдо миграции.
Изменения в соотношении городского и сельского населения России, Белгородской и Псковской области имеют общие черты. В стране преобладание городского населения утвердилось на 20 лет раньше, чем в рассматриваемых регионах. Казалось бы, исторический ход событий давал им шанс понять разрушающее влияние урбанизации и выработать соответствующие меры, позволяющие сберечь сельское население.
К сожалению, в Псковской области так и не смогли изменить роковой ход событий, предварив, как уже отмечалось ранее, но с гораздо более тяжелыми последствиями и в более короткое время «русский крест». В то время как Белгородская область, судя по всему, во всяком случае, на данный момент, стремится не упустить свой шанс. Потери населения, связанные с отрицательным сальдо естественного прироста, стали давать о себе знать в этой области почти на 20 лет позже, чем в Псковской. Но и эти потери в Белгородской области пока еще успешно компенсируют за счет повышения миграции.
В результате сегодня в обеих областях в сельской местности наблюдается снижение численности населения. Это общая тенденция, но темпы и глубина этого процесса в каждой области разные. Различие состоит в том, что Псковская область уже теряет и городское население, а Белгородская еще продолжает его наращивать [6. С. 134–135, 19. С. 95–97]. Для Псковской области указанные тенденции были характерны в 1979–1989 гг., но делалось это за счет ускоренного ухода в города местных селян.
Белгородская область в принципе могла бы быть принята сторонниками решения проблем демографического развития путем повышения миграционной привлекательности в качестве образца для подражания и подтверждения практической значимости их позиции [20]. В свое время в ней нашли приют как беженцы (турки-месхети-цы), так и многие вынужденные (с закрывавшихся шахт Воркутинского угольного бассейна) и добровольные переселенцы. «Я влюблена в эту землю», – говорит жительница Старого Оскола, родившаяся в Донбассе, получившая высшее образование в Курске и всю жизнь проработавшая врачом в Нерюнгри (Якутия).
К массовому индивидуальному жилищному строительству на селе
Основным ориентиром постиндустриального развития должна стать диверсификация и модернизация производства и инфраструктуры малых городов и сельской местности. В долгосрочной перспективе выиграет тот, кто ускоренно разовьет сельскую местность и нарастит в ней численность населения. Поощрение и поддержка массового индивидуального жилищного строительства в малых городах и на селе особенно актуальны для регионов, в которых удельный вес селян составляет менее 30% общей численности населения. Предлагаемая мера направлена на подведение материальных оснований под цели демографического развития, а также формирования малого бизнеса и среднего класса. Увеличение численности и веса указанных социальных групп может способствовать изменению положения на рынке труда.
Важно подчеркнуть, что ее реализация ориентирована не на перераспределение ресурсов. Она идет путем повторного заселения пустующих сельских территорий и теряющих население малых городов. А это значит, что она предполагает капитализацию и вовлечение в хозяйственный оборот (застройку, куплю-продажу, налогообложение) пустующих сегодня земель.
Малый бизнес и средний класс, способствуя росту самозанятости, могут впитать в себя излишки предложения рабочей силы на рынке квалифицированного труда. Иными словами господствующая сегодня конкуренция на рынке наемного труда должна быть дополнена конкуренцией со стороны самозанятости. Задача состоит в том, чтобы сделать самозянятость такой же привлекательной, как и наемный труд. В конечном счете решение этой задачи возможно только при условии ориентации на самозанятость, в том числе и в сельской местности, значительной части не находящего мест приложения и спроса труда горожан. Указанное развитие событий с неизбежностью будет способствовать росту спроса на квалифицированные кадры, а значит – и повышению оплаты и мотивации на труд наемных работников. Оно способно обеспечить благоприятные условия модернизации со стороны сферы труда. Одновременно оно может способствовать формированию частного человека и среднего класса на селе.
В новых условиях было бы правильно, во-первых, рассматривать индивидуальное жилищное строительство в качестве одного из видов общественных работ, во-вторых, снять все ограничения на переселение и повторное заселение людьми ранее упраздненных сельских населенных пунктов, в-третьих, признать материнский капитал в качестве платежного средства для всех видов строительства и приобретения жилья.
Минимальные и максимальные размеры участков, выделяемых под индивидуальное строительство, равно как и кредитуемую площадь жилых домов, можно установить федеральным законодательством. Реальные размеры выделяемых земельных участков и товарных кредитов – решениями региональных и местных властей. Приоритетом должны пользоваться все выходцы с малой родины, а также постоянные жители. Порядок выдачи товарного кредита местными строительными материалами, а также оценки затрат расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, равно как и анализ опыта жилищного строительства в сельской местности, выполнены нами в ряде предшествующих работ [21].
Фиксируя в условиях возврата товарного кредита порядок списания той или иной его части, можно регулировать различные социально-экономические отношения. Желаемое число детей в семье можно стимулировать через процент, списываемый за рождение каждого ребенка. Образование больших семей полезно стимулировать путем введения процента, списываемого за совместное проживание трех и более поколений, характер производственной ориентации домохозяйств – путем закрепления в условиях договора номенклатуры и объема товаров или услуг, которыми будет возвращаться кредит.
По оценке главы Министерства регионального развития РФ, «сегодня особое внимание нужно уделить развитию сегмента малоэтажного домостроения, так как такое жилье быстро строится и дешевле стоит» [22]. Партией «Единая Россия» инициирован проект дополнительного строительства 500 тыс. недорогих индивидуальных домов в год. Партия «будет добиваться, чтобы 60% российских семей располагало возможностью самостоятельно решить свою жилищную проблему [23]. Такого рода инициативы следует признать движением в нужном направлении.
В этом деле пионером по праву служит Белгородская область, начавшая массовую застройку села еще в 1990-е годы [24]. Сегодня по этому пути идут уже многие регионы. Среди них Республики Мордовия и Чувашия, Кемеровская, Новосибирская, Оренбургская и Ульяновская области.
В Новосибирской области можно получить из бюджета до 400 тыс. руб. субсидии на строительство собственного дома в границах сельского поселения [25. С. 2]. В Оренбургской области в рамках программы «Сельский дом» желающим улучшить свои жилищные условия из средств бюджета выдаются льготные целевые займы в виде строительных материалов и услуг. За время реализации этой программы в 2000–2010 гг. на селе построено 11 тыс. жилых домов [26. С. 3]. В Ульяновской области на базе давно обезлюдевшего села идет строительство деревни фермеров на 130 домов – фермерских животноводческих хозяйств [27. С. 4].
Основная проблема состоит в том, что все эти хорошие начинания еще очень далеки от задач массового индивидуального жилищного строительства. По данным переписи населения 2002 г., в Оренбургской области существует 320,3 тыс. сельских домохозяйств [28. С. 12]. Это значит, что за прошедшие 10 лет в ней улучшили свои жилищные условия только около 3% владельцев сельских домохозяйств. Ровно то же самое следует сказать и о программных установках правящей партии. Реализация ее замыслов уводит решение жилищных проблем за полувековой рубеж. Если исходить из имеющихся объемов жилья и потребности в жилище [29], то для решения жилищного вопроса на путях массового индивидуального жилищного строительства в краткосрочной перспективе необходимо довести ежегодный объем вводимого в строй жилья до 5–7 млн квадратных метров. Пока еще такая задача выглядит далекой от реальности.
К сожалению, Федеральный центр за пределами устных высказы- ваний руководителей страны в пользу поддержки малоэтажного жилищного строительства [30] принимает в этом направлении очень ограниченные управленческие и законодательные решения. В то же время такие решения крайне необходимы. Во-первых, для того чтобы дать четкий сигнал многим регионам, привыкшим не делать лишних телодвижений без указаний сверху. Во-вторых, для приведения действующей нормативной базы в части Градостроительного, Жилищного, Земельного, Лесного и Водного кодексов в соответствие с требованиями развития массового индивидуального жилищного строительства.
Сегодня повсеместно, в том числе и в сельской местности, земельный участок под индивидуальное жилищное строительство можно приобрести только по аукциону. В связи с огромной и хорошо известной разницей в доходах и уровне жизни в городской и сельской местности указанное положение дел ставит в совершенно не равные условия местных селян и пришлых горожан, желающих приобрести участок в сельской местности. Разработчики такого порядка позаботились о формально равном доступе к земле, совершенно упустив из виду, что в городе и на селе в обороте находятся, если так можно выразиться, абсолютно другие деньги.
К числу объективных причин слабой подготовленности органов местного самоуправления к реализации задач, связанных с жилищным строительством, следует отнести «отсутствие нормативных актов Правительства РФ, обеспечивающих реализацию норм Градостроительного кодекса, а также формирующих основу для рынка доступного жилья и технического регулирования» [29]. Спустя много лет после принятия Градостроительного кодекса РФ его отдельные статьи все еще не вступили в силу.
К слову сказать, даже в перспективном планировании, например, в разделе Пространственное развитие российской экономики «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.», до сих пор все еще рассматриваются только «возможные риски городской депопуляции» [31] и нет даже упоминания о сельских территориях. Видимо, разработчики раздела полагают, что в пространственной организации общества сельская и городская местности – два самостоятельных образования. Для них важно минимизировать риски городской депопуляции. Вместе с тем эти риски, во-первых, своими корнями как раз и уходят в сельскую местность, а во-вторых, демографическое развитие связано прежде всего с сельской местностью.
Возможно, реализация предлагаемых инноваций в масштабе страны может показаться довольно спорной. Тем не менее для многих регионов с быстро сокращающимся населением, таких, как приграничные: Республика Карелия, Приморский и Хабаровский края, Мурманская, Псковская и Смоленская области, что-то близкое по своей сути к повторному заселению сельской местности – требование даже не сегодняшнего, а скорее вчерашнего дня.
Процветающая и людная сельская местность должна рассматриваться в качестве основного гаранта устойчивого демографического развития всей пространственной организации общества, а не отдельных ее частей и составляющих. Отсюда в рамках предмета нашего рассмотрения можно сделать вполне практический вывод: достижение целей модернизации общества связано с социально-экономической политикой, в которой акцент будет сделан на массовое индивидуальное строительство в сельской местности. В ближайшее время ее развитию необходимо уделить как минимум такое же внимание, какое уделялось развитию городов в течение продолжительного времени.
По оценке многих специалистов, жилищное строительство является той отраслью экономики, за которую на пути к модернизации можно вытащить всю цепочку отраслей [32]. Оно, во-первых, является конечным продуктом целой серии отраслей – от добывающей и обрабатывающей промышленности до сельского хозяйства и сферы обслуживания. Во-вторых, за ним стоит огромный, практически неограниченный спрос широких слоев населения. И, в-третьих, оно связано с удовлетворением потребности, имеющей чрезвычайно высокий уровень мотивации, которая может изменить отношение к труду и жизни в целом. Именно это обстоятельство и может служить исходной точкой и индикатором увязки задач модернизации с интересами широких слоев населения.