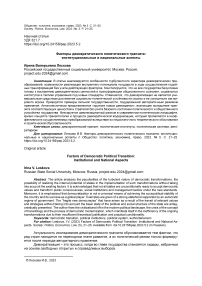Факторы демократического политического транзита: институциональные и национальные аспекты
Автор: Лескова Ирина Валерьевна
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 5, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются особенности турбулентного характера демократических преобразований, возможности реализации внутреннего потенциала государств в ходе осуществления подобных трансформаций без учета действующих факторов. Констатируется, что не все государства безусловно готовы к восприятию демократических ценностей и трансформации общественного сознания, социальных институтов и тактики управления под новые стандарты. Отмечается, что демократизация не является универсальным средством достижения социально-политической устойчивости страны и ее успешности как мирового игрока. Приводятся примеры сильной государственности, поддержанной автократичным режимом правления. Антагонистически представляются «хрупкие новые демократии», возникшие вследствие транзита соответствующих ценностей и стратегий без учета базового состояния политического и общественного устройства государства. Фиксируется цивилизационный разлом в современном политическом ландшафте, кризис концепта транзитологии и процесса демократической модернизации, который проявляется в неэффективности осуществляемых преобразований вследствие их недостаточного теоретического обоснования и практической обусловленности.
Демократический транзит, политические институты, политическая система, авторитаризм
Короткий адрес: https://sciup.org/149143033
IDR: 149143033 | УДК: 321.7 | DOI: 10.24158/pep.2023.5.2
Текст научной статьи Факторы демократического политического транзита: институциональные и национальные аспекты
Актуальность исследования демократического транзита обуславливается тем фактом, что ряд стран находится на переходном этапе развития, а их политический режим только формируется после периода авторитарного правления.
Демократизация – это процесс, когда во главе государства становятся лидеры, избранные на основе свободных открытых и справедливых выборов.
Учёные условно разбивают этот процесс на несколько этапов, основным из которых является демократический переход (Guilhot, Schmitter, 2000). Причем это не просто период от свержения авторитарного режима или его падения до проведения демократических выборов и принятия новых законов. На этом этапе происходит демократическая консолидация общества и общественного мнения.
Сегодня не подвергается сомнению тот факт, что демократический режим является наиболее оптимальной формой государственного устройства для современного общества (Arugay, 2021).
Процесс демократизации предполагает реализацию определённых стратегий. В этой связи можно обозначить риски военного вмешательства в процесс формирования политической легитимности посредством консолидации элит и мобилизации массовой поддержки условных демократов. Но, как показывает политическая практика, на самом деле они могут и не демонстрировать мирное поведение как по отношению к своим союзникам, так и по отношению к оппозиционерам, особенно если общество находится еще на стадии перехода к демократии.
Исследование обозначенного типа преобразований особо выделяет роль политических лидеров, мотивы поведения элит и их стратегического выбора, который во многом объясняет причины перехода от тоталитарного режима правления к либеральному (Hegre, 2001).
Активность политологических исследований демонстрирует усиление интереса к проблеме транзитологии как в России, так и в странах Центральной Восточной Европы. Большинство имеющихся теоретических концептов и их проектирование на национальные модели перехода к демократическом формам правления формируют критическое направление, которое выступает не столько за отказ от имплементации западной парадигмы транзитологии, сколько за всесторонний анализ институциональных и процедурных составляющих данного концепта (Капустин, 2016).
Исследование институциональных условий реализации принципов транзитологии и учета особенностей деятельности представительных учреждений стран Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ) означает не просто соотнесение существующей парламентской практики с мировым опытом, и прежде всего западным, но и учет особенностей формирования конституционно-правовых норм данных стран.
Анализ демократических изменений позволяет говорить о разноскоростном и многовекторном их характере, а также о неопределённости дальнейших перспектив подобного транзита. Несмотря на общую демократическую направленность преобразований общественной жизни в странах ЦВЕ, для них характерны различные политические траектории развития, переход к неким разновидностям неототалитаризма (Капустин, 2001).
Политический транзит в той или иной мере представляет собой определённую абстракцию или теоретический концепт, который отражает состояние переходного общества и неопределенность институциональных условий как социальной, так и политической системы.
Динамика демократического перехода порой превосходит представления политологов о нем как о простом выявлении исторических предпосылок зачастую в форме институциональных условий или смены внешне- и внутриполитических приоритетов общественного развития. Политические лидеры и элиты должны прийти консенсусу для перехода к новой форме общественного устройства и демократическому типу правления (Kohli, 2004). Значимыми факторами в этом случае следует признать диспозицию элит, стратегические расчёты и консолидацию мнений.
Проблемным вопросом остаётся следующий: а могут ли демократии способствовать мирному устройству общества? Он составляет основу современной дискуссии в сфере мировой политики.
Как отмечают некоторые исследователи, турбулентный характер демократических преобразований в ряде стран увеличивает вероятность конфликтов, в том числе и вооруженных (Mansfield, Snyder, 1995). Сочетание несформировавшихся социальных институтов, недовольной оппозиции, элит и восприимчивости общественного мнения к националистическим призывам порой подталкивает государства к внутренним ситуациям противостояния. Демократические же преобразования основываются на стабильности коалиций, предсказуемости политических программ и устойчивости идей, воспринимаемых обществом. Всё это обеспечивает электоральную поддержку процессов демократизации.
Рассмотрим основные факторы, определяющие становление такого общественного строя. Первым из них является наличие сильных политических институтов, поскольку именно они способны преодолеть различия в интересах социальных групп. Вторым – предсказуемость политики, которая позволяет чётко характеризовать временные горизонты основных действий и вероятность реализации политики компромиссов. Зачастую элиты пытаются использовать институты государственного принуждения на основе статус-кво в целях удержания преимуществ над оппозиционными группами.
Как пишут Е.Д. Мэйнсфилд и Дж. Снайдер, лидеры демократизирующихся государств используют множество политических стратегий, в том числе метод «логроллинга» который основывается на удовлетворении интересов каждой из обращающихся к власти групп (Mansfield, Snyder, 1995). Одной из них традиционно являются военные, поддерживающие смену режима. Кроме того, правящие политические коалиции в процессе демократических преобразований зачастую прибегают к внешней агрессивной риторике как объединительному элементу общества (Видо-евич, 1998). Политическая модель Е.Д. Мэйнсфилда и Дж. Снайдера концентрирует внимание не просто на функционировании нестабильных политических коалиций на основе «логроллинга», но и на попытках поддержать политический престиж с опорой на национальные интересы и стратегию поисков внешнего врага (O’Donnell, Schmitter, 1986).
Противоположностью указанной модели служит пример преобразований стран Центральной и Восточной Европы, поскольку демократическому транзиту в них способствовал мир и продвижение идеи его приоритетности в Европе в целом (Мельвиль, 2000).
Уровень социального развития также имеет решающее значение при оценках нестабильности ситуации смены политического режима и перехода к демократической форме правления. Следует отметить, что такого рода преобразования возможны в условиях не только согласованных изменений, но и кардинального разрыва политической системы, управленческого распада. Примером могут служить государства Югославии и Чехословакии.
В условиях демократизации общества оказываются востребованы политические лидеры и сильные государственные деятели, которые, выбирая стратегию действий, либо стремятся к общественному консенсусу, либо пытаются подавить оппозицию в зависимости от текущей ситуации, политической конъюнктуры, исторического наследия и культурного фактора, а также конфигурации политических сил.
Демократический транзит и формирование новых социальных систем на основе принятия либеральных ценностей и институтов могут образовывать достаточно устойчивое единство в контексте исторических практик того или иного региона. Феноменом порой является рецидив авторитарных форм правления для отдельных стран, в том числе спустя определённое время прохождения периода демократического транзита (Huntington, 1968). Примером может являться развитие политической системы Польши в сторону парламентской демократии и существующие вызовы демократическому режиму на основе реформ судебных органов власти, или столь часто обсуждаемый в СМИ опыт демократизации Венгрии и попытки охарактеризовать режим правления В. Орбана как авторитарный.
Успех демократического транзита в современном обществе невозможен без развитых социальных институтов, в том числе без гражданского общества, представители которого достаточно щепетильны в отстаивании своих прав, выполнении обязанностей и несении ответственности, разбираются в политике.
Социокультурный феномен модернизации появляется в условиях снижения традиционализма, поскольку последний выступает препятствием для дальнейшего общественного развития: историческая память превращается в инструмент, который способствует преобразованиям, традиционализм является их тормозом.
Таким образом, важной составляющей демократического транзита являются проблемы преодоления традиционализма и формирование института гражданского общества.
Европейские практики демократизации для стран ЦВЕ связаны не просто с национальным фактором, но и с качественно новыми формами развития государственности. Для многих из них самосохранение нации является доминантой общественного сознания, выступая этатистским фактором развития демократических процессов. Понимание их необходимости стало дополнением к построению конкурентного рыночного общества и либерального типа государственного управления (Капустин, 2001).
Исследователи также отмечают, что сильные режимы автократии иногда создают положительный экономический и государственный потенциал, необходимый для последующих демократических преобразований на основе политических стратегий, основанных на консолидации позиций заинтересованных сторон, подкупа или запугивания оппозиции для смены политической повестки дня в необходимом контексте (Mousseau, 2001).
Прочная автократия с сильным лидером может рационально максимизировать эффективность использования политических механизмов в стране, где демократия не является оптимальным сценарием транзита. Неподготовленность к подобного рода преобразованиям в отдельных странах сопровождается характерным конфликтом интересов социальных групп.
Таким образом, преждевременная демократизация в раздробленных и неустойчивых обществах может иметь контрпродуктивные результаты.
«Естественные» государства не дисфункциональны, а «имеют свою собственную логику» и могут поддерживать стабильность и порядок только путем использования ренты, что противоречит «нормам и ценностям порядка открытого доступа» (Mousseau, 2001). Эти утверждения подтверждают роль государственной власти в управлении успешными переходными процессами развития и опровергают тезис о том, что «все хорошее может быть реализовано одномоментно, что демократия, равенство, свободные рынки и быстрый экономический рост могут быть достигнуты одновременно в современном развивающемся мире» (Mousseau, 2001).
Хрупкость многих новых демократий и успех некоторых сильных автократий ставит под вопрос безусловность веры в необходимость глобального распространения демократических идей, которая доминирует в нынешней повестке дня, но состояние слабых авторитарных государств поднимает столь же серьезные вопросы об их функциональности и стабильности (Hegre, 2001).
Сказанное демонстрирует проблему утверждения эффективности как демократии, так и авторитаризма в отдельных государствах. Важен политический контекст, в котором проводятся демократические реформы, т.к. он имеет по крайней мере такое же значение, как и сами реформы (Mousseau, 2001).
Следовательно, внутренние конфликты и коррупция нарушают ход демократических преобразований в большинстве слабых государств, проистекают из разрыва между потенциалом преобразований и теми реформами, которые необходимы для поддержки более сложных форм государственной системы. Демократизация включает в себя не только проведение всеобщих выборов, должны быть инициированы перемены и в среде политических элит, институционального дизайна политической и государственной систем управления.
Использование «шумпетерианского определения демократии», которое включает в себя «свободные и справедливые выборы, подотчетность политиков электорату и свободное участие граждан в политике» (Шумпетер, 1995), а также «силу механизмов, необходимых для обеспечения этих процессов» (Шумпетер, 1995), имеет серьезные ограничения, т.к. недооценены трудности, связанные с долгосрочными институциональными изменениями. Акцентируя все внимание на процедурных аспектах демократических процессов, зачастую пренебрегают структурными проблемами, которые всегда сопровождают подобные преобразования и осложняют демократизацию институционально-слабых государств, в которых доминирующие элиты (в том числе и военные) сохраняют прерогативу вмешательства в ход реализации модернизационных процессов.
Жизнеспособные демократии характеризуют сильные государства, поскольку правящий режим в них предполагает свободное взаимодействие представителей власти с гражданами.
Авторитарные управленческие системы могут создать предпосылки для демократизации государства, но их способность сделать это зависит от многих переменных, которые не могут быть гарантированы.
Некоторые «переходные» государства с хорошо развитыми социальными институтами, политическими организациями и стабильной экономикой колеблются в выборе между неоднозначными ценностями демократии и авторитаризмом как реакцией на конфликты, порожденные необходимостью синтезировать социальный и экономический план развития, опираясь на политические силы страны.
Универсального рецепта демократического транзита не существует. В современном политическом ландшафте наблюдается цивилизационный разлом, кризис концепта транзитологии и процесса политической модернизации. Он состоит не только в недостаточном теоретическом обосновании неэффективности демократических трансформаций во многих странах, но и в том, что фундамент теории модернизации, связанный с проецированием перспектив справедливого демократического общества, для многих государств оказался ложным.
Кризис концепта транзитологии расширяет научные воззрения на универсальность демократии, на политическую реальность, которая конструируется на основе актуальных политических задач органов публичной власти.
Список литературы Факторы демократического политического транзита: институциональные и национальные аспекты
- Видоевич З. Неототалитаризм при постсоциализме - возможен ли он? // Россия и современный мир. 1998. № 3. С. 125-133.
- Капустин Б.Г. Идеология и крах советского строя // Россия в глобальной политике. 2016. Т. 14, № 6. С. 70-81.
- Капустин Б.Г. Конец «транзитологии»? О теоретическом осмыслении первого посткоммунистического десятилетия // Полис. Политические исследования. 2001. № 4. С. 6-26.
- Мельвиль А.Ю. Демократические транзиты, транзитологические теории и посткоммунистическая Россия // Политическая наука в России: интеллектуальный поиск и реальность. М., 2000. С. 337-368.
- Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995. 540 с.
- Arugay A.A. Democratic Transitions // The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies. Cham, 2021. Р. 1-7. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74336-3_190-1.
- Guilhot N., Schmitter С. Ph. De la Transition a la Consolidation. Une Lecture Retrospective des Democratization Studies // Revue Française de Science Politique. 2000. Vol. 50, iss. 4. Р. 615-632. https://doi.org/10.3406/rfsp.2000.395500.
- Hegre H. Toward a Democratic Civil Peace? Democracy, Political Change, and Civil War, 1816-1992 // American Political Science Review. 2001. Vol. 95, iss. 1. Р. 33-48. https://doi.org/10.1017/s0003055401000119.
- Huntington S.P. Political Order in Changing Societies. New Haven, 1968. 448 р.
- Kohli A. State Directed Development. Political Power and Industrialization in the Global Periphery. Cambridge, 2004. 466 р. https://doi.org/10.1017/cbo9780511754371.
- Mansfield E.D., Snyder J. Democratization and the Danger of War // International Security. 1995. Vol. 20, iss. 1. Р. 5-10. https://doi.org/10.2307/2539213.
- Mousseau D.Y. Democratizing with Ethnic Divisions: A Source of Conflict? // Journal of Peace Research. 2001. Vol. 38, iss. 5. Р. 547-567. https://doi.org/10.1177/0022343301038005001.
- O'Donnell G., Schmitter P. Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore, 1986. 750 р.