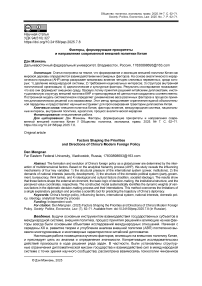Факторы, формирующие приоритеты и направления современной внешней политики Китая
Автор: Дэн Мэннань
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 7, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья построена на тезисе, что формирование и эволюция внешней политики Китая как мировой державы определяются взаимодействием многомерных факторов. На основе аналитического иерархического процесса (AHP) автор раскрывает механизмы влияния четырех ключевых переменных, среди которых: 1) давление международной системы; 2) требования национальных интересов; 3) структура внутренней политической организации; 4) идеологические и культурные факторы. Результаты исследования показывают, что все они формируют внешнюю среду, базовую логику принятия решений китайскими дипломатами, институциональную структуру внешней политики КНР и транслируемые ей ценностные координаты соответственно. Построенная модель систематически определяет динамические веса различных факторов в процессе принятия дипломатических решений и их взаимосвязи. Этот метод преодолевает ограничения единой объяснительной парадигмы и предоставляет научный инструмент для прогнозирования траектории дипломатии Китая.
Внешняя политика Китая, факторы влияния, международная система, национальные интересы, внутренняя политика, идеология, процесс аналитической иерархии
Короткий адрес: https://sciup.org/149148762
IDR: 149148762 | УДК: 94(510):327 | DOI: 10.24158/pep.2025.7.8
Текст научной статьи Факторы, формирующие приоритеты и направления современной внешней политики Китая
Введение . Будучи основным инструментом взаимодействия государственных субъектов в международной системе, внешняя политика, процесс принятия решений и влияющие на нее факторы всегда были основными объектами исследований международных отношений. Начиная с середины XX в. развитие теории и углубление анализа внешней политики (АВП) постепенно выявили многоуровневые и многомерные характеристики китайской дипломатии.
Настоящая работа посвящена изучению факторов, влияющих на внешнюю политику Китая, и преследует цель их анализа и определения значимости. Конкретизация исследовательских действий произошла в ходе решения ряда задач. В частности, были установлены структурные ограничения дипломатической миссии государства и взаимодействие сил в международной системе с точки зрения научного сообщества; рассмотрена взаимосвязь психологии чиновников
внешнеполитического ведомства и принимаемых ими решений как микрооснова дипломатии страны; определено влияние социальных факторов на внешнюю политику государства в контексте формирования национальной идентичности; охарактеризован макроэкономический фон для реализации внешней политики КНР; установлена специфика китайской внешней политики, основанной на симбиозе политических и культурных традиций, особенностях национального управления, философии внешнего взаимодействия; определено влияние внутренних факторов на внешнюю политику Китая, обозначены теории, формирующие актуальные тенденции в ней.
В качестве методов исследования использовались преимущественно описательно-аналитические. Анализ внешнеполитической стратегии Китая опирается также на системный и синергетический подход, поскольку она реализуется в рамках международных представлений о дипломатии, но в то же время характеризуется опорой на национальные особенности.
Новизна исследования определяется аспектами изучения внешней политики Китая, обнаружением ее специфики с опорой на общетеоретические парадигмы ее организации, международные и внутренние факторы развития.
Структурные ограничения дипломатической миссии и взаимодействие сил в международной системе . Традиционная теория международных отношений склонна рассматривать анархию и распределение власти в международной системе как основные независимые переменные внешней политики. Структурный реализм, представленный К. Уолтцем, подчеркивает, что составляющие международной системы формируют поведенческий выбор стран посредством «конкурентного давления» (Waltz, 1979). Он считает, что с точки зрения рационального субъекта целью внешней политики страны является максимизация ее выживания и безопасности, а распределение власти в системе определяет модель стратегического взаимодействия между странами, например, логику сдерживания и систему противовесов между Соединенными Штатами и Советским Союзом во время холодной войны. Эта идея получила дальнейшее развитие в мысли Б. Буэно де Мескиты в рамках разработки им теории ожидаемой полезности войны (Bueno de Mesquita, 1980). Ученый предположил, что решение страны выбрать войну или мир основывается на рациональном расчете потенциальных выгод и рисков, среди которых ключевыми переменными являются баланс сил и союзнические отношения на системном уровне.
Однако простота теории систем также была поставлена под сомнение. Неоклассический реализм пытается примирить системное давление с внутренними политическими переменными, утверждая, что ограничения международных структур должны быть преобразованы в конкретную политику через посреднический механизм внутренней политики. Например, Дж. Фирон в своей работе «Рационалистическое объяснение войны» (Fearon, 1995) указал, что «проблемы с обязательствами» на системном уровне могут привести к тому, что страны неверно оценят намерения своих оппонентов, тем самым провоцируя конфликты, но такие неверные суждения часто тесно связаны с внутренней асимметрией информации или дефектами в механизмах принятия решений. Этот пересмотр предполагает, что влияние международной системы не является односторонним, а взаимодействует с внутренними политическими процессами.
Формирующая роль внутренней политики для внешней полностью объясняется в модели бюрократической политики и теории плюрализма. Предложенная Г. Эллисоном в книге «Природа решения» (Allison, 1971), она указывает на то, что дипломатические решения являются не продуктом одного рационального субъекта, а результатом игры между различными правительственными департаментами, группами интересов и бюрократическими агентствами. Например, во время Кариб-ского кризиса разногласия между Государственным департаментом США, Министерством обороны и разведывательными службами существенно повлияли на окончательный путь принятия решений.
Либеральный институционализм подходит к этому вопросу с точки зрения внутреннего устройства, исследуя, как конституционные механизмы и отношения законодательной и исполнительной власти ограничивают решения в области внешней политики. Например, Т. Престон и П. Харт обнаружили, что общественное мнение и избирательные циклы в демократических странах могут заставить лиц, ответственных за решения, принимать краткосрочные внешнеполитические стратегии, ориентированные на интересы, а не на долгосрочное стратегическое планирование (Preston, Hart, 1999). Кроме того, важными переменными считаются также внутренние экономические структуры (например, энергетическая зависимость, промышленные группы интересов).
Дж. Розенау пытался построить макроструктуру, охватывающую внутренние переменные модели внешней политики, но поскольку их было слишком много и они почти не поддавались обобщению, он обратился к теории среднего уровня, сосредоточившись на извлечении моделей в конкретных странах или областях дипломатии (Rosenau, 1980).
Взаимосвязь психологии чиновников внешнеполитического ведомства и принимаемых ими решений как микрооснова дипломатии страны. Индивидуальные психологические черты и когнитивные процессы лиц, принимающих решения, являются уникальными факторами, определяющими дипломатические усилия государства и его стратегию в международном пространстве. М. Германн обнаружила с помощью классификации стилей лидерства, что личность лидера существенно влияет на предпочтение риска и методы обработки информации при принятии решений в кризисных ситуациях (Hermann, 2005).
«Теория перспектив» Д. Канемана и А. Тверски еще больше оспорила гипотезу рационального выбора: ученые предположили, что лица, принимающие решения, склонны стремиться к риску, когда сталкиваются с потерями, и избегать его, когда появляется возможность получить выгоду (Канеман, Тверски, 2015). Их теория применялась для объяснения нерационального поведения государств в территориальных спорах или экономических санкциях, например, логики принятия решений Израилем во время Ливанской войны 2006 г.
Эмоциональные исследования добавляют динамическое измерение к микроанализу. Модель «Риск как чувства» Дж. Левенштейна указывает на то, что непосредственные эмоции могут подавить рациональные расчеты и привести к внезапным изменениям политики (Loewenstein et al., 2001). Например, феномен «группового мышления» среди лиц, принимающих решения, во время кризиса часто усугубляет эскалацию конфликтов из-за эмоционального «заражения» и информационной блокады. Анализ И. Джениса практики группового принятия решений во время войны во Вьетнаме подтвердил этот механизм (Janis, 1972).
Влияние социальных факторов на внешнюю политику государства в контексте формирования национальной идентичности . Социокультурные факторы косвенно влияют на внешнюю политику государства, формируя национальную идентичность и нормативное признание (Ланко, 2011). Конструктивистская теория А. Вендта подчеркивает, что международные нормы и культурные концепции интегрируются в восприятие страной своих собственных интересов (Wendt, 1999), например, так «теория демократического мира» формирует политику вмешательства западных стран во внутренние дела остальных (Кочетков, 2024).
С. Хоффманн отметил, что историческая память и национальный нарратив могут усилить чувствительность страны к внешним угрозам (Hoffmann, 1980). Например, сопротивление России расширению НАТО на восток проистекает из ее исторической травмы.
Эффективность публичной дипломатии как практического инструмента культурного влияния ограничивается социальной структурой целевой страны. Например, ученые в ходе эмпирических исследований пришли к выводу, что публичная дипломатия Китая пользуется большим признанием в развивающихся странах, но часто ограничивается на Западе из-за идеологических разногласий и предвзятости средств массовой информации (СМИ) (Ван Юйфэй, 2022; Юй Мэнц-зяо, 2024). Опросы общественного мнения и фокус-интервью показывают, что успех публичной дипломатии зависит от культурного резонанса, коммуникационных стратегий и долгосрочного накопления доверия, а не от односторонней пропаганды (Бахриев, 2017).
Хотя ученые дали подробные объяснения факторов, влияющих на внешнюю политику, теоретическая интеграция подходов к ее изучению по-прежнему сталкивается с трудностями. Системную теорию критикуют за игнорирование внутренних переменных, в то время как политические модели с трудом объясняют феномен межнациональной конвергенции. В последние годы неоклассический реализм пытался интегрировать системные давления с внутренними опосредующими переменными. Например, Ф. Закария предположил, что «степень централизации национальной власти» влияет на автономию внешней политики (Zakaria, 1998). В то же время междисциплинарные исследования, вызванные поведенческой революцией, обнаружили взаимосвязь между физиологическими характеристиками лиц, принимающих решения и предпочтениями в отношении риска, открывая новый путь для построения микро- и макромостов.
Макроэкономический фон для корректировки внешней политики Китая . Переход от однополярной системы к многополярной после холодной войны составляет макроэкономический фон для корректировки внешней политики КНР. Ван Ичжоу (2009) предложил Китаю выбрать стратегию «институциональной интеграции» в условиях «структурного дефицита власти» (например, недостаточности полномочий для формулирования международных правил) и усилить свой голос, вступив в ВТО, участвуя в G20 и других механизмах.
Чжан Цинминь (Чжан Цинминь, 2024) считает, что стратегия США «переориентироваться на Азиатско-Тихоокеанский регион» напрямую стимулировала переход Китая к «приоритетной дипломатии в отношении соседей», типичными примерами чего являются строительство островов и рифов в Южно-Китайском море и ускоренное продвижение Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (РВЭП).
Сложность геополитической обстановки безопасности в Восточной Азии вынуждает Китай искать баланс между «военным сдерживанием» и «совместной безопасностью». Ван Ичжоу (Ван Ичжоу, 2009) отметил, что двойное давление северокорейской ядерной проблемы и ситуации в Тайваньском проливе заставило Китай сбалансировать цели «поддержания стабильности» и «сдерживания сепаратизма» в своей политике в Северо-Восточной Азии.
Исследование Шетипо Корадиган (Шетипо Корадиган, Ма Иньфу, 2018), посвященное отношениям Китая и Мьянмы, показывает, что конкуренция великих держав в Юго-Восточной Азии (например, стратегическая игра между Китаем и Соединенными Штатами) существенно влияет на выбор КНР политических инструментов в отношении соседних стран. Кроме того, рост нетрадиционных проблем безопасности (таких как изменение климата и общественное здравоохранение) подтолкнул дипломатию Китая к расширению парадигмы «территориальной безопасности» до «комплексной безопасности».
Специфика китайской внешней политики . Специфика внешней политики КНР и факторы влияния на нее имеют отличительные местные особенности, которые коренятся в уникальных политических и культурных традициях и современной системе национального управления. Логика построения национальной модели принятия решений не только следует действующим законам современных суверенных государств, но и отражает политическую мудрость китайской цивилизации, формируя структуру принятия решений, отличную от западной.
В противовес полицентричному и ориентированному на выборы механизму внешнеполитического принятия решений, характерному для европейских стран и США, китайская дипломатия демонстрирует высокую степень институциональной централизации и устойчивую приверженность стратегической траектории. Эти различия обусловлены не только структурными особенностями, но и глубинными расхождениями в источниках легитимности, механизмах обратной связи и основе внешнеполитических целей.
Китайская модель основана на логике «координации партийного руководства и профессионального исполнения». Как отмечает Цзя Цинго и др. (2018), ключевые внешнеполитические решения в стране принимаются Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), тогда как профильные министерства и аналитические центры выполняют функции экспертной поддержки и реализации. Такая структура обеспечивает согласованность действий и эффективность в управлении кризисами и стратегическим планированием (Jakobson, Knox, 2010). В противоположность этому, внешняя политика США определяется системой сдержек и противовесов, активностью групп интересов и влиянием общественного мнения. Как отмечает Д.В. Дрезнер (Drezner, 2009), даже при доминирующей роли президента в дипломатии вмешательство Конгресса, средств массовой информации (СМИ) и других акторов нередко приводит к стратегической нестабильности и непоследовательности.
С точки зрения обратной связи китайская дипломатия сочетает стратегическое целеполагание с регулярной институциональной оценкой. Согласно полевым данным Цай То (2016), Центральная комиссия по иностранным делам ежегодно собирает информацию от зарубежных миссий и аналитических структур, внося на ее основе точечные корректировки во внешнюю политику страны. Несмотря на закрытость этого процесса, он способствует устойчивости и преемственности в дипломатической сфере. Напротив, дипломатия западных демократий подвержена влиянию электоральных циклов и давления СМИ, что ведет к инструментализации внешнеполитических вопросов. Например, К. Хейнес (Haynes, 2012) указывает, что в преддверии выборов в США чаще инициируются жесткие или символические внешнеполитические меры, лишенные стратегической глубины.
Также наблюдаются различия в культурно-когнитивных основах. Как подчеркивает Цинь Яцин (2009), китайская дипломатическая философия, пронизанная конфуцианской традицией гармонии и мировоззренческой целостности, акцентирует внимание на управлении отношениями и долгосрочной интеграции интересов. С конструктивистской позиции эта нормативная идентичность отражается в продвижении инициатив, таких как «Сообщество общей судьбы». Запад же опирается на договорную логику прав и обязанностей, институциональные ограничения и нормативное хеджирование.
Эмпирические исследования (Shambaugh, 2013) показывают, что Китай в сфере внешней помощи придерживается принципов невмешательства и взаимовыгодного сотрудничества, тогда как США и Евросоюз часто увязывают ее с идеологическими условиями. Это усиливает структурные различия между дипломатическими моделями Китая и Запада.
Различные теоретические концепции объясняют логику и особенности дипломатической практики КНР с разных точек зрения. Рассмотрим их.
-
1. Моральный реализм. Моральный реализм, предложенный Янь Сюэтуном (Янь Сюэтун, 2014; Yan Xuetong, 2019), подчеркивает ключевую роль политического руководства в национальном подъеме. Эта теория утверждает, что агрессивность дипломатии Китая после XVIII съезда Коммунистической партии Китая проистекает из способности руководящего ядра принимать стратегические решения и объясняет стратегию балансирования страны в российско-украинском конфликте через концепцию «нейтральности». Основная логика заключается в том, что развивающимся странам необходимо сформировать новый международный порядок, основанный на ценностях «справедливости и цивилизации», и объединить материальную мощь с моральной силой для
-
2. Либеральная перспектива: взаимодействие внутреннего и глобального управления. Теория взаимодействия «двух больших ситуаций» Ван Цзисы фокусируется на резонансном эффекте модернизации внутреннего управления и реформы глобального управления (Ван Цзисы, 2024). Эта точка зрения подчеркивает, что дипломатия Китая служит внутренним потребностям развития, таким как координация основных международных и внутренних ситуаций и усиление голоса в глобальном управлении посредством институционального участия. Например, в ходе реформы Всемирной торговой организации (ВТО) Китай превратился из принимающего правила в их разработчика, а структура Азиатского банка инфраструктурных инвестиций воплощает мудрость «институциональной власти». Однако либеральный подход требует дальнейшей интеграции внутренних политических переменных (таких как влияние групп интересов) для улучшения теоретического объяснения.
-
3. Конструктивистский подход: динамическая эволюция процесса и идентичности. «Реляционная теория» Цинь Яцина (2009) прорывается сквозь западную онтологию и объясняет эволюционную логику периферийной дипломатии Китая с помощью «процесса конструирования идентичности». В нем предлагается, чтобы Китай реконструировал концепцию суверенитета и сформировал международную идентичность «Свободного Китая» путем участия в многосторонних институциональных практиках (таких как сотрудничество в рамках АСЕАН). Корректировка китайско-советских отношений на раннем этапе реформ и открытости была синхронизирована со стратегической трансформацией страны. Конструктивизм подчеркивает интернализацию и социализацию норм и полагает, что трансформация китайской дипломатии от «сокрытия своих возможностей и выжидания своего часа» к «проактивности и инициативности» является результатом взаимного конструирования международных норм и внутренних идентичностей.
-
4. Институциональный анализ: интернализация и инновация международных правил. Тан Шипин фокусируется на эффекте интернализации международных институтов, отмечая, что Китай изменил международные правила посредством введения новых платформ взаимодействия, таких как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и механизм БРИКС, совершив скачок от «институционального участника» к «институциональному проектировщику» (Тан Шипин и др., 2022).
формирования нового типа лидерства. Однако эта теория подверглась критике за акцент на универсальных объяснениях международных отношений и недостаточное объяснение уникальности дипломатической практики Китая (например, концепции сообщества с общим будущим).
Система принятия решений КНР представляет собой иерархическую структуру «концентрического круга». Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК осуществляет стратегическую координацию внешней политики страны через Центральную комиссию по иностранным делам. Министерство иностранных дел и Министерство торговли образуют уровень реализации политики и отвечают за сбор информации и технические консультации. Центральная комиссия национальной безопасности выполняет функцию межведомственной координации. Эта составная структура «координация партийного комитета + профессиональное исполнение» не только обеспечивает централизацию и единство политического руководства, но и учитывает функции профессиональных отделов. По сравнению с моделью принятия решений в западных странах, где на политику влияют лоббирование интересов групп и ротация партий, китайская система уделяет больше внимания стратегической решимости и преемственности политики.
Своеобразие влияющих факторов отражается во взаимодействии трех измерений. Во-первых, интеграция традиционных концепций, таких как мировоззрение и гармоничная культура, с современными нормами международных отношений сформировала ценностную ориентацию «сообщества с единым будущим человечества». Во-вторых, сохранение периода стратегических возможностей и защита прав и интересов развития Китая являются основой для разработки им концепции внешней политики, что особенно очевидно в инициативе «Один пояс, один путь» и предложениях в области глобального развития. Эта особенность привела к формированию уникальной логики принятия решений «двойной циркуляции» во внешней политике Китая: внутренняя циркуляция подчеркивает баланс между централизованным и единым руководством партии и общими интересами общества и реализует институциональную интеграцию разнообразных требований посредством демократического централизма; внешняя –фокусируется на единстве твердых принципов и стратегической гибкости, поддерживая изменяемость политики при защите основных интересов страны. Такая модель принятия решений не только позволяет избежать политической близорукости, вызванной западным популизмом, но и преодолевает жесткие недостатки авторитарной системы, демонстрирует высокую устойчивость в реагировании на изменения века.
Текущий исторический процесс изменений в международной системе и модернизация Китая подталкивают дипломатический механизм принятия решений к переходу на более высокий уровень. Углубляющееся развитие полномасштабной народной демократии, широкое применение технологий цифрового управления, а также создание и совершенствование новой системы аналитических центров – все это меняет научный уровень процесса принятия решений. Подобная динамическая адаптивность является ключом к сохранению стратегической инициативы во внешней политике Китая. Последняя не является статичной. Это динамичный, многомерный и сложный процесс, который подвержен структурному давлению международной системы, а также влиянию множества факторов, таких как внутренняя политика, экономика, общество и культурные традиции.
Влияние внутренних факторов на внешнюю политику Китая . Потребности в политической легитимности внутри страны и идеологическое позиционирование всегда были основными движущими силами внешней политики КНР. Представляется необходимым рассмотреть мнения представителей научного сообщества по этому вопросу.
Ван Ичжоу (2009) предположил, что структурные характеристики политической системы Китая (такие как принцип «контроля партии над дипломатией») и исторически сложившаяся «традиция централизованного принятия решений» определяют основные атрибуты внешней политики, которые служат стабильности режима и безопасности суверенитета.
Ши Иньхун (2006) отметил, что хотя трансформация дипломатии Китая после политики реформ и открытости частично впитала концепцию свободной экономики, «устойчивость» идеологии по-прежнему значительна; например, она сохраняет высокую степень последовательности в вопросах суверенитета, таких как Тайвань и Синьцзян. Кроме того, «китайская мечта» как политический дискурс новой эпохи рассматривается учеными как стратегический инструмент интеграции внутреннего консенсуса и формирования международного имиджа. Эволюция ее коннотации напрямую влияет на выбор Китаем пути участия в глобальном управлении.
Экономические факторы являются одновременно целью и средством внешней политики. Чжан Цинминь (2024) считает, что трансформация ее от «дипломатии выживания» к «дипломатии развития», по сути, является результатом роста экономической мощи, которая выражается в укреплении международных экономических и торговых сетей посредством инициативы «Один пояс, один путь».
Эмпирическое исследование Чи Юна (2015) показывает, что экономическая зависимость Китая от его торговых партнеров положительно коррелирует с последовательностью их позиций при голосовании в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Этот вывод подтверждает эффективность инструментов экономической дипломатии в координации политики.
Однако Лун Гоцян1 предупреждал, что глобальное расширение экономических выгод может также усугубить структурные противоречия со странами Запада, такие как конкуренция между Китаем и США в таких областях, как технологические стандарты и доступ к рынкам.
Влияние социальных факторов на внешнеполитические решения долгое время недооценивалось, но в последние годы оно возросло. Хао Юйфан и Линь Су (2007) выдвинули идею о том, что рыночно-ориентированные реформы привели к появлению множества социальных субъектов (таких как транснациональные корпорации, аналитические центры и лидеры общественного мнения в Интернете), которые косвенно участвуют в формировании дипломатической повестки дня через такие каналы, как политические консультации и формирование общественного мнения.
Исследование Ван Цунгана (2012) показало, что резкая реакция общественности на вопрос о вступлении Японии в Совет Безопасности ООН в 2003 г. побудила китайское правительство скорректировать свою дипломатическую стратегию в отношении этой страны, что указывает на «пороговый эффект» общественного мнения по конкретным вопросам.
Чжао Цюаньшэн (2007) подчеркнул, что влияние социальных факторов асимметрично: когда речь идет об основных национальных интересах, лица, принимающие решения, по-прежнему склонны отдавать приоритет стратегической рациональности, а не предпочтениям общественного мнения.
Идеи «гармонии» и «основы на отношениях» в традиционной китайской культуре оказали глубокое влияние на модели дипломатического поведения. Цинь Яцин (2009) отметил, что построение Китаем неконфронтационной международной среды посредством сети «стратегических партнерств» отражает его предпочтение процессов «управления отношениями», что резко контрастирует с западной «договорной» дипломатией.
Ван Ичжоу (2009) заявил, что конфуцианская культура «праведности и выгоды» побудила Китай делать акцент на взаимности, а не на одностороннем результате в своей помощи другим государствам, что особенно заметно в его политике в отношении Африки.
Однако ограничения культурных объяснений заключаются в том, что их трудно количественно оценить, и они склонны к концептуальному совпадению с реалистическими мотивами.
Традиционно признано доминирование дипломатического «проектирования верхнего уровня» в Китае, однако недавние исследования выявляют тенденцию к распространению участия в принятии решений на регионы. Чэнь Чжиминь (2016) обнаружил, что прибрежные провинции глубоко включены в региональную дипломатическую повестку дня посредством реализации проектов трансграничного экономического сотрудничества (таких, например, как железная дорога Китай – Лаос), формируя взаимодополняемость между «местной дипломатией» и центральной политикой.
Чжан Ни (2016) системно анализировал роль аналитических центров в аргументации внешней политики страны. Например, Китайская академия социальных наук, Институт современных международных отношений и другие подобные структуры, по его мнению, оказали влияние на формулирование политики защиты прав в Южно-Китайском море через канал «внутренних ссылок».
Инструментальные факторы (такие как большие данные и социальные сети) меняют информационную основу принятия решений. Хун Цзюньхао (2007) отметил, что такие практики Министерства иностранных дел, как «День открытых дверей» и «Твиттер-дипломатия», отражают возросшую чувствительность лиц, принимающих решения, к международному общественному мнению.
Фань Уцю и Синь Сяосяо (2017) предположили, что «гибкая» корректировка дипломатической риторики Китая (например, использование выражения «сообщество с общим будущим человечества») является как отражением культурной уверенности, так и адаптивным ответом на законы международной коммуникации.
Заключение . Существующие теоретические модели, пытающиеся объяснить внешнюю политику Китая, сталкиваются с серьезными методологическими трудностями. Их можно свести к двум основным проблемам: слабой интеграции внутренних факторов и недостаточной глубине анализа специфических китайских черт в дипломатических концепциях.
Первая проблема заключается в слабом учете внутренних переменных, влияющих на формирование внешнеполитической стратегии КНР. Существующие теории часто упускают из виду или недооценивают сложное взаимодействие различных внутренних сил. Например, роль политической борьбы внутри Коммунистической партии Китая, влияние различных фракций и группировок, а также динамика общественного мнения и его отражение в политическом процессе – все это нуждается в гораздо более детальном и всестороннем анализе. Необходимо разработать сложные модели, которые бы адекватно отражали взаимосвязь между внутренними и внешними политическими решениями.
Вторая проблема связана с недостаточным вниманием к китайским особенностям. Многие существующие теории, заимствованные из западной политической науки, не в полной мере способны объяснить действия Китая на мировой арене. Для более адекватного описания необходимо глубокое и систематическое изучение традиционной китайской культуры и ее влияния на современную внешнюю политику. Например, такая концепция, как «гармония интересов и праведности», играет значительную роль в определении внешнеполитических приоритетов Китая, но ее значение часто недооценивается западными исследователями. Аналогично необходимо более глубокое понимание влияния на дипломатию КНР таких современных инициатив страны, как «Один пояс, один путь». Необходимо изучить не только экономические, но и идеологические и культурные аспекты этой инициативы, а также ее влияние на восприятие Китая другими странами. Проблема усугубляется тем, что простое наложение западных теоретических моделей на китайскую практику приводит к искажению реальной картины. Будущие исследования должны преодолеть эти ограничения, синтезируя различные теоретические подходы. Например, сочетание рационализма, исходящего из анализа интересов и издержек, с конструктивизмом, учитывающим роль норм и идентичности, может дать более полное и точное понимание китайской внешней политики. Так, приверженность Китая принципу многосторонности основана не только на прагматичном учете интересов (стремление избежать одностороннего давления), но и на глубоко укоренившейся в китайской культуре ценности «сообщества с общим будущим для человечества». Национальная внешняя политика не сводится к простому максимизированию собственных выгод, а ориентирована также на формирование желаемого миропорядка, основанного на определенных нормах и ценностях.
В заключение можно сказать, что формирование собственной дипломатической теории Китая представляет собой интегрированный процесс критического усвоения западных парадигм и теоретической сублимации собственного практического опыта. Этот путь основан на уникальном сочетании академического сознания и глубокой культурной уверенности в собственной идентичности и миссии на мировой арене. Адекватное понимание китайской внешней политики требует отхода от простых и универсальных схем и глубокого изучения как внутренних, так и внешних факторов влияния на нее с учетом специфики китайской культуры и истории.