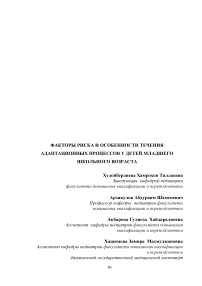Факторы риска и особенности течения адаптационных процессов у детей младшего школьного возраста
Автор: Худойбердиева Хамрохон Тиллаевна, Арзикулов Абдураим Шамсиевич, Акбарова Гулноза Хайдаралиевна, Хашимова Замира Махмуджановна
Журнал: Re-health journal.
Рубрика: Педиатрия
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
Изучены клинические проявления и основные факторы патогенеза школьной дезадаптации в сравнительно-возрастном аспекте (7-11 лет, n = 950) и (12-17 лет, n = 550). Наиболее значимыми факторами риска, наряду с психо-социальными (состояния микросоциальной среды семьи и школы) являются генетические и церебрально-органические. Особенностью выявленной у детей и подростков дезадаптации являлась ее массивная соматизация, которая характеризовалась полиморфными вегето-висцеральными нарушениями в различных органах и системах (пищеварительной, кожной, респираторной, двигательной, сердечно-сосудистой, выделительной, эндокринной) и альгическими проявлениями
Школьная дезадаптация, факторы риска, соматизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14124997
IDR: 14124997
Текст научной статьи Факторы риска и особенности течения адаптационных процессов у детей младшего школьного возраста
Изучены клинические проявления и основные факторы патогенеза школьной дезадаптации в сравнительно-возрастном аспекте (7-11 лет, n = 950) и (12-17 лет, n = 550).
Наиболее значимыми факторами риска, наряду с психо-социальными (состояния микросоциальной среды семьи и школы) являются генетические и церебрально-органические.
Особенностью выявленной у детей и подростков дезадаптации являлась ее массивная соматизация, которая характеризовалась полиморфными вегето- висцеральными нарушениями в различных органах и системах
(пищеварительной, кожной, респираторной, двигательной, сердечно сосудистой, выделительной, эндокринной) и альгическими проявлениями.
Рациональное управления процессами адаптации составляет основу естественной профилактики заболеваний [1, 3, 4, 5, 6, 7].
На протяжении последних десятилетий проблема адаптации занимает одно из центральных мест в биологии, физиологии и медицине. Расширение среды обитания, ускорение ритма жизни, усложнение элементов трудовой деятельности привело к ежедневному столкновению человека с множеством новых, непривычных для него воздействий и дало толчок к подробному изучению адаптации организма [5, 6, 7]. Создание детальной теоретической базы, посвященной вопросам адаптации, не только не ослабило интерес к данной проблеме, но, напротив, открыло широкие возможности для новых фундаментальных и прикладных разработок [1,6, 7,]. Так, перспективным является изучение адаптивного статуса для оценки саногенетического потенциала организма и своевременной, доклинической диагностики формирующейся патологии [4, 5, 7,].
Особенно важно изучение адаптационных возможностей в детском возрасте - в период наиболее напряженных морфо функциональных перестроек и влияния на организм целого комплекса часто меняющихся условий, среди которых большое значение имеют особенности учебной деятельности и
«внутришкольной среды» [4, 5, 6,]. Доказано, что адекватная адаптация к ним в детстве определяет качество жизни в последующие периоды [3, 6].
Особую актуальность приобретает мониторинг уровня здоровья, ориентированный, в первую очередь, на показатели адаптивного статуса ребенка, его реактивности и устойчивости к негативным влияниям [1, 3, 7]. Эти показатели, на наш взгляд, должны быть ведущими и при оценке эффективности профилактических и оздоровитель-ных мероприятий.
Вместе с тем, большинство методов оценки адаптации организма, широко используемых в эксперименте, не приемлемы для массовых профилактических обследований ввиду их трудоемкости и инвазивности, а опубликованные в доступной литературе результаты оценки адаптивного статуса по косвенным критериям носят дискуссионный характер [7]. Поэтому вопросы адаптации детей к постоянно меняющимся и зачастую неоптимальным условиям среды требуют дальнейшего изучения, что будет способствовать своевременному распознаванию и предотвращению заболеваний в детском возрасте.
Цель работы.
Сравнительно-возрастное изучение клинических проявлений и основных факторов патогенеза школьнойдезадаптации (ШД).
Материал и методы исследования. Основными методами исследования были клиникопсихологический и эпидемиологический. Дополнительно использовались психопатологический, параклинический и катамнестический методы. Наблюдение детейс нарушенной адаптацией нами проводилосьв условиях детских поликлиники психоневрологического диспансера (7-11 лет, n = 950) и (12-17 лет, n = 550).
Результатыи обсуждения. Полная дезадаптация выявляется у детей 12-17 лет 29,6±3,58%; P>0,05 (22,4% и 36,0%, у мальчиков и девочек) больше, чем у младших школьников 22±3,38%
(16,5% и 28,1% соответственно у девочек и мальчиков). Такое соотношение отмечается и по II степени дезадаптации (14,5% и 25,6%; 10,4% и
19,4%; Р>0,05
соответственно у девочек и мальчиков) в возрастные периоды 12-17 и 7-11 лет. У 72,7% девочек и 52,5% мальчиков 7-11 лет и 63,1% девочек и 38,4% мальчиков
12-17 лет с дезадаптацией выявлено нарушенным только одного из 3-х показателей.
Таким образом, значительно чаще, чем в детском возрасте
(15,7±1,18%), среди подростков школьного возраста (29,4±1,9%;
P<0,001) встречаются нарушения адаптации.
Степени реагирования и качество изменения психоэмоционального профиля зависят от возраста обследуемых. Так, у мальчиков и девочек в возрасте 7-11 лет изменения психоэмоционального фона достоверно отмечались снижением по импунитивной «М» направленности реакции (20,4±5,11; P<0,01). В целом же наблюдается усиление снижения толерантности к фрустрации, что проявляется повышением показателя экстрапунитивных «Э»
реакций (48,65±6.34) и реакций продолжения потребности «I-P» (44,45±6,31; P<0,05). У подростков учащихся с реакцией дезадаптации соотношение между типами реакций и их направленностью резко нарушены. Констатируется достоверный рост экстрапунитивных «Э» реакций самозащитного типа (58,25±3,5; P<0,05) по сравнению с детьми 7-11 лет и по сравнению показателями детей 12-17 лет здоровой популяции. Также отмечается выраженная тенденция увеличения показателя реакции продолжения потребности «I-P» (21,75±2,98; P<0,001). Реакция по типу «О-Д» (21,95±2,99; P<0,01) -доминирования препятствие снижена по сравнению со здоровой популяцией. Результаты исследования свидетельствуют, что на стрессовую ситуацию школьники с дезадаптацией склонны реагировать агрессией на окружающих, излишней самозащитой и их эмоциональные реакции отличаются неадекватностью. Низкий «О-Д» в обеих возрастных группах (19,2±5,0 и 21,95±2,99; P<0,001) 7-11 и 12-17 лет свидетельствует о снижении критичности и самооценки. Препятствие, вызвавшее фрустрацию, детьми оценивается как не имеющее серьезного значения или дети ищут источник конфликта вне себя. Достоверно реже, чем в норме, ответы импунитивной направленности и несколько чаще –интрапунитивные (23,8±3,08; Р<0,05).
Невротические расстройства были обнаружены в 20,1% случаев от всех обследованных и представлены в основном астеническими, истерическими и обсессивно-фобическими нарушениями. Астенические расстройства психогенного генеза характеризовались симптомами “раздражительной слабости” в сочетании с аффективными колебаниями, вегетососудистыми нарушениями: нервность, тревожность, раздражительность и т.д. Эти школьники мало участвовали в общественных делах класса. Как правило, успеваемость у них была низкой, что вызывало конфликты с преподавателями. Истеро-невротические нарушения представлены острыми аффективными демонстративными нарушениями поведения, разнообразными жалобами, преимущественно астенического и ипохондрического характера; импульсивность, агрессивность, чувство физического недостатка, неприятные болезненные ощущения и т.д. Эти подростки характеризовались частичной дезадаптацией в коллективе, что обуславливалось систематическими конфликтами с преподавателями и одноклассниками, резкими колебаниями показателей успеваемости. Обсессивнофобические расстройства встречались, в основном, в виде навязчивых опасений ипохондрического характера, навязчивых действий, страхов болезни и смерти, онихофагии, трихотилломании и т.д. В данной группе относительная дезадаптация возникала из-за низкой успеваемости. Выраженных нарушений поведения и конфликтов с одноклассниками не отмечалось. Анализ частоты неврологических расстройств показывает, что у детей 7-11 лет с нарушенной адаптацией наиболее интенсивно проявляются симптомы общей двигательной расторможенности или синдром гиперактивности или двигательное беспокойство (28,0±3,61% и 44,6±4,0%), расторможенность (31,5±3,7% и 29,3±3,66%), недостаточная целенаправленность и импульсивность действия (39,7±3,94% и 27,5±3,59%) нарушения концентрации внимания (17,6±3,06% и 15,5±2,91%), неусидчивость (27,5±3,59% и 39,3±3,93% соответственно у девочек и мальчиков).
У подростков 12-17 лет проявления синдрома, прежде всего моторная возбудимость (21,0±3,20% и 27,0±3,48%) и двигательная расторможенность (12,4±2,58% и 18,5±3,05%), неусидчивость (13,5±2,68% и 22,0±3,25% соответственно у девочек и мальчиков) постепенно сгладились.
Установлено, что преждевременные роды с рождением недоношенного ребенка отмечены у 11 (12,08%) женщин, детей с врожденной гипотрофией - у 15 (16,5%) , переношенного ребенка - у 7 (7,69%), что существенно отличается от удельного веса этих детей в общей популяции (2,99%, 2,32%, P<0,001). Средняя масса тела девочек с нарушениями адаптации при рождении (3235±8,9 грамм) не отличалась от массы девочек контрольной группы (3320±294 гр., Р< 0,05), а средняя масса тела мальчиков с ШД (3057±84,9 гр.) была достоверно ниже, чем у новорожденных мальчиков контрольной группы (3372±33,4 гр, Р<
0,01).Необходимо отметить, что среди детей с нарушенной адаптацией преобладали дети, при рождении имеющие как пониженную (<2,5 кг) массу тела - 14 (15.4%, Р< 0,01) , так и повышенную (>4,0 кг) массу телу -15 (16,3%), что приводит к существенному снижению доли детей, имеющих среднюю массу тела (3100-3500 г.), соответственно у девочек (36,7% Р<0,01) и мальчиков 37,4 (Р<0,01) по сравнению с контрольной группой (55,5 – 54,9%). В группе детей с дезадаптацией высока доля встречаемости пре - и перинатальной (Р<0,05 –
0,001) патологии, чем в контрольной группе, в основе которых лежали микроциркуляторные нарушения гипоксического и гипоксически- травматического характера.
Результаты экспериментально – психологических исследований у детей с дезадапатцией, перенесших перинатальное поражение ЦНС, указывают на нарушения умственной работоспособности, проявляющиеся нарушением темпа, инертности психических процессов, истощаемости и нарушением аффективно-личностной сферы (снижение познавательной активности, нерешительность в действиях, дезорганизация деятельности при затруднениях). Значительная часть интеллектуальных функций у них представлялась сохранной, однако, отмечалось ослабление мнестических процессов, что приводило к снижению объема запоминаемого материала и прочности его удержания. Особое место среди невротических симптомов у обследованных детей и подростков с ШД занимают мысли и опасения по поводу своей внешности и строения тела. Эти симптомы достоверно больше у подростков 12-17 лет, нежели у детей 7-11 лет (36,0%±3,77 и 44,0%±3,89 против 14,0%±2,79 и
12,7%±2,68; Р< 0,001) соответственно у девочек и мальчиков.
Результаты изучение личностных особенностей детей и подростков с ШД показывают что, в целом выявляемость типов акцентуаций характера, достоверно отличается от популяционных (P<0,001). Большую группу составляют гипертимные и гипертимно-смешанные (24,5%±4,72 и 13,7%±3,34; Р<0,05
соответственно у мальчиков и девочек), истероидные (4,1%±2,20 и 4,7±2,35;), астеноневротичные (4,5%±2,30 и 5,5%±2,53, Р <0,05) типы акцентуаций характера. Показатели остальных типов не отличались от таковых популяционных.
Анализ семейной ситуации в группе детей с ШД показал в абсолютном большинстве случаев наличие частых конфликтов между родителями (87,7%, Р<0,001). Почти половина обследованных воспитывались в условиях неполной семьи (37%, Р<0,001) - отсутствие одного или обеих родителей, чаще отца, наличие в семье отчима, мачехи и др., а также в атмосфере постоянных семейных скандалов и конфликтных отношений. Нормальные условия воспитания встречались значительно реже (7,7%, Р<0,001), чем у детей и подростков без отклонений в поведении (контрольная группа). Среди форм неправильного воспитания чаще всего обнаруживались гипоопека (35,7%), безнадзорность (36,0%).
Ситуация “кумира” семьи чаще встречалась (18,9%), чем “золушки”. Довольно чаще выявляли смешанные варианты неправильного воспитания. Характерно, что в большинстве обследованных семей
(86,8%) материально бытовые условия были благоприятными.
Следовательно, появление отклонений в поведении у подростков зависело не столько от материального социальными (состояния микросоциальной среды семьи и школы) являются генетические и церебральноорганические. Особенностью выявленной у детей и подростков дезадаптации являлась ее массивная соматизация, которая характеризовалась полиморфными вегето- висцеральными нарушениями в различных благосостояния, сколько от отрицательного микроклимата.
Заключение. Таким образом, клинико популяционные исследования, проведенные среди здоровых школьников, выявили большую частоту детей и подростков с нарушениями адаптации
(72%), среди которых преобладают III степень -относительная дезадаптация. Наиболее значимыми факторами риска, наряду с психоорганах и системах
(пищеварительной, кожной, респираторной, двигательной, сердечно сосудистой, выделительной, эндокринной) и альгическими проявлениями.
Невротические расстройства встречаются среди детей и подростков в сравнительно большом проценте случаев и, как правило, приводят к выраженным нарушениям адаптации школьников в коллективе.
Неврологическое обследование детей школьного возраста с пре- и перинатальной патологией позволяет выявить группу риска с ШД, определить на основании минимальных функциональных отклонений прогноз дальнейшего психомоторного развития ребенка, обеспечить своевременную коррекцию этих отклонений.
Ситуационно-обусловленные нарушения поведения чаще возникают на фоне акцентуаций характера, приводят к полной дезадаптации школьников.
Список литературы Факторы риска и особенности течения адаптационных процессов у детей младшего школьного возраста
- Андреюк В.Ю. Школьная дезадаптация в форме систематических пропусков занятий: факторы риска и психосоциальная реабилитация.// Дефектология.-2009.-№5, С. 38-47.
- Арзикулов А.Ш. Клинико-психологическая оценка школьной дезадаптации. // Педиатрия им Сперанского.-2004.-№4. С.110-.
- Заваденко Н.Н. Школьная дезадаптация в педиатрической практике. // Лечащий врач.-2005.-№1, С. 22-26.
- Сетко Н. П. Физиолого-гигиенические аспекты сохранения индивидуального здоровья школьников. // Российский медицинский журнал.- 2003.- №2, С.48-49.
- Филлипова Е.А. Школьная дезадаптация и факторы риска пограничных психических расстройств среди учащихся средних и старших классов массовых школ.// Социальнаяиклиническаяпсихиатрия.-2010.-№3, С. 50-53.
- Tredwell-Deering D. E., Hanisch S.U. Psychological response to disaster in children and families. // Clin. Pediat. Emer. Med.- 2002.- V. 3. P.4-14.
- Winston F. K., Adams N/K., O Neill C. V. at. al. Acute stress disorder symptoms in children and their parents after pediatric traffic injury. // Pediatrics.- 2002.- V. 109. № 6. P. 1293-1299.