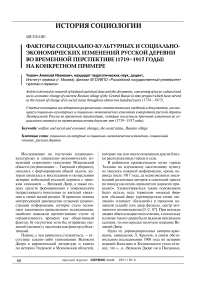Факторы социально-культурных и социально- экономических изменений русской деревни во временной перспективе (1719-1917 годы) на конкретном примере
Автор: Ткалич Алексей Иванович
Журнал: Сервис plus @servis-plus
Рубрика: История социологии
Статья в выпуске: 3 т.5, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию разрозненных статистических сведений и документов, касаю- щихся социально-культурных и социально-экономических изменений конкретной русской деревни Центральной России во временной перспективе, которые послужили причиной изменения ее со- циального статуса на протяжении почти двухсот лет (1719-1917 годы).
Социально-культурные и социально-экономические изменения, социальный статус, русская деревня
Короткий адрес: https://sciup.org/140210057
IDR: 140210057 | УДК: 316.4.051
Текст научной статьи Факторы социально-культурных и социально- экономических изменений русской деревни во временной перспективе (1719-1917 годы) на конкретном примере
Исследование по изучению социальнокультурных и социально-экономических изменений старинного поселения Московской области (до революции — Тверской губернии), началось с формирования общей задачи, которая сводилась к воссозданию и осмыслению истории небольшой русской деревни с громким названием — Великий Двор, а также поиску средств формирования у современного подрастающего поколения ее жителей уважения к своей малой родине. В процессе поиска интересующей руководство сельской администрации информации, которое стало основным заказчиком проведенного исследования, наиболее важными препятствиями стали: а) ограниченность времени как объективный фактор; б) отсутствие хотя бы отправных сведений (данных) у заказчика как фактор субъективный.
Первое, с чем пришлось столкнуться, — отсутствие какого-либо упоминания Великого Двора в краеведческой литературе и книгах по истории Тверской и Московской областей, которые так или иначе описывали другие близко расположенные города и села.
В районном краеведческом музее города Талдома по изучаемому населенному пункту не нашлось никакой информации, кроме периода после 1917 года, да всевозможных инсинуаций различных авторов в советской прессе по поводу наследия «проклятого царского прошлого». Удовлетвориться таким положением было нельзя, ведь термином «великий двор» или «большой двор» (древнерусское слово «великий» означает «большой») в прошлом называли усадьбу или двор феодала, центр вотчинного землевладения [3. С. 87]. При великих дворах обычно вырастали селения, а поскольку наличие такого двора было важным признаком селения, то оно нередко получало название Великий Двор.
Один из дореволюционных авторов-краеведов, священник Л. Крылов, в своем обстоятельном исследовании 1908 года по истории церквей Калязина и Калязинского уезда сетовал, что «…о…Великом Дворе ни в Писцовых, ни в старых Переписных книгах нет никакого упоминания» [4, р. XIX]. Впрочем, по его мнению, это обстоятельство не могло быть объяснено поздним возникновением этого селения. Кроме того, Великий Двор, по словам местных жителей, был предан огню польско-литовскими отрядами в годы Великой Смуты на Руси в начале XVII века. Действительно, в середине августа трагического для нашей страны 1609 года отряды Лжедмитрия, продвигавшиеся после неудачной осады Троице-Сергиевой Лавры, решили уничтожить отряд Скопина-Шуйского. Однако тот упредил их намерение, и на реке Жабне, в районе ее впадения в Волгу, напал на них, поразил и обратил вражеские отряды польско-литовских захватчиков в бегство [2. С. 44]. Оставшиеся в живых бросились к Твери, «в досаде и бешенстве своем», сжигая и уничтожая встречавшиеся по пути села и деревни. Множество русских поселений, разрушенных в то нелегкое для Руси время, так и не смогло впоследствии восстановиться, получив обозначение бывшего человеческого жилья — «пустошь».
Таких пустошей по России XVII столетия образовалось довольно много. Об этом есть упоминания у В. Соловьева, В. Ключевского, Н. Карамзина. Косвенным доказательством описанной версии является наличие некоего элемента в топонимике Великого Двора, которое называется «монастырь». Местные жители происхождение этого названия объясняют тем, что в старину был-де на окраине их села некий монастырь, но сгорел при польско-литовской осаде. Однако в списках монастырей, бывших в России с древности, никакого монастыря ни до, ни после XVII века в данной местности не числится. Таким образом, если и существовал Великий Двор во времена Великой Смуты, то его жители, вероятно, погибли, а в более поздние времена местность заселили выходцы из других мест, а потому информации о прежней жизни села сохранилось крайне мало, но название «великий двор» стало первой, хотя и не единственной «зацепкой» исследования.
Первое официальное упоминание о деревне Великий Двор Талдомского района Московской области относится к 1719 году: Петр I для удовлетворения нужд первой российской регулярной армии прилагал немалые усилия для создания собственной кожевенно-обувной мануфактуры, привлекая к этому средства казны. Развивались и старые центры обувного производства, такие как верхневолжские Кимры и близлежащие селения [20], например, Великий Двор, который в то время вместе с соседними деревнями Лебзино, Ябди-но, Сляднево и Людятино входил в Кимрскую округу.
Следующая находка подтвердила правильность предпринятых шагов, тем более что был обнаружен, наконец, один из основных документальных источников: «Генеральное соображение по Тверской губернии, извлеченное из подробного топографического и камерального по городам и уездам описания 1783– 1784 годов». О жителях Калязинского уезда, к которому относился Великий Двор, там сказано: «Крестьяне здешние имуществом не бедны. Сенокосов имеют достаточно, а потому держат излишнее количество скота, лучше удобряют землю и ежегодно по быку, по овце и по свинье продают, присовокупляя к тому несколько коровьего масла, яиц, творогу, грибов и других продуктов, а всем тем выручают до 7–8 рублей. А как сих денег недостаточно крестьянину на ежегодные расходы, то и находится он принужденным приобретать промыслы [в частности — башмачное — А. Т .], что ему тем удобнее сделать можно, чем менее прилепляется он к одному промыслу; но упражняется в разных, получает до 10 рублей и более, коими платит подати и всякие [необходимые] поборы. Будучи же с сей стороны, обеспечен, а в хлебе не имея недостатка, препровождает он жизнь не бедную» [1. С. 50].
В 1823 году деревней Великий Двор владел гвардии прапорщик Николай Осипович Кожин. Он принадлежал к старинному роду бояр Кожиных. Кроме Великого Двора Николай Осипович владел в 1793–1834 годах деревней Пригары Талдомской волости [5. С. 59–60].
Еще одно известное имя в истории Великого Двора — графиня Самойлова-Литте. Ее изображение известно нам по картине Карла Брюллова «Графиня Самойлова со своей воспитанницей возвращаются с бала». До 1846 года почти все крестьяне Калязинского уезда относились к Кимрской вотчине графини Самойловой. В 1846 году 52 селения этой вотчины, в которых проживали более чем 3 000 наличных душ обоего пола, поступили в казенное ведомство из частного владения графини Самойловой в счет уплаты ею долга государству в размере 495 000 руб. С тех пор деревни, в том числе Великий Двор, входившие во владения графини Самойловой, именовались в народе «кимрскими казенными деревнями».
До 1874 года крестьяне этих деревень состояли на оброке, в соответствии с узаконенным порядком о крестьянах, поступивших в казенное ведомство из частного владения. Согласно Списку населенных мест Тверской губернии по сведениям 1859 года, Великий Двор располагался «по правую сторону Дмитровского тракта (из Калязина в Москву). Положение свое имел — «при колодце», т. е. вдали от реки и считался казенной деревней [9. С. 134].
В следующем по времени источнике — «Сборнике статистических сведений по Тверской губернии за 1890 год» указывалось, что в 1888 году Великодворском крестьянском обществе число дворов насчитывается — 82, число семей — 111. Мужского населения — 251 душа, женского — 283. Всего — 534 человека обоего пола. В середине XIX столетия Великий Двор оставался деревней, потому что собственной церкви не имел, вследствие чего относился к Талдомскому Михаило-Архангельскому церковному приходу.
В возрастном делении лиц мужского пола среди них в 1888 году было:
-
1. До 8 лет… ……………………………………8 душ;
-
2. От 8 до 14 лет… ………………………33 души;
-
3. От 14 до 18 лет… ……………………..23 души;
-
4. От 18 до 60……………………………...126 душ;
-
5. От 60 лет и старше… …………………31 душа;
ИТОГО: ……………………………………251 душа.
Среди лиц женского пола в 1888 г. насчитывалось:
-
1. До 8 лет… ………………………………43 души;
-
2. От 8 до 14 лет… ………………………34 души;
-
3. От 14 до 16 лет… ………………………..7 душ;
-
4. От 18 до 55………………………………139 душ;
-
5. От 55 лет и старше… …………………60 душ;
ИТОГО: …………………………………283 души.
Среди них проживало 7 человек «убогих» — четверо мужчин и трое женщин. Так называемых «неспособных к труду» в деревне было две души — один мужчина и одна женщина. Кроме того, трое крестьян проходили действительную военную службу «в солдатах».
«Постороннего», т. е. пришлого населения в деревне отмечено 9 семей, 38 душ: 14 мужчин и 24 женщины разного возраста.
Грамотой в 1888 году в деревне Великий Двор владели 26 мужчин и 4 женщины. Учащихся — 4 мальчика. Семей хотя бы с одним грамотным было 26, с учащимися — 3, с грамотными и учащимися грамоте — 6.
В том же 1888 году в Великом Дворе насчитывалось 2 промышленных заведения (башмачные мастерские), 3 лавки, трактиров и питейных заведений — 3 шт.
Усадебной земли в Великодворском крестьянском обществе было 24 десятины; пахотной земли — 330 десятин; заливные луга отсутствовали; полевой сенокос проходил на 210 десятинах; сенокос на пустошах — 450 десятин. Сена накашивалось ежегодно 32 160 пудов. Выгон осуществлялся на 3 десятинах земли. Из строевого леса деревенскому обществу принадлежало — 30 десятин, дровяного леса — 20 десятин.
Кустарниками было занято 288,9 десятин. Вообще, как писал автор «Генерального соображения по Тверской губернии», составленного в 80-х годах XIX столетия, «… лесу по Каля-зинскому уезду везде довольно…» [1].
Далеко не все в Великом Дворе в 1888 году жили одинаково: 40 хозяйств было безлошадными , с одной лошадью — 60, с двумя лошадьми — 10, с тремя и более — одно хозяйство. Без коров насчитывалось 28 хозяйств, с одной коровой — 52 хозяйства, с двумя коровами — 25 хозяйств, с тремя — 6 хозяйств. Без лошади и без коровы в 1888 году было зафиксировано 25 деревенских хозяйств.
Почвенные условия в Великом Дворе, как и во всей Талдомской волости, по своему строению ничем особенно привлекательным не отличались. Большая часть, за исключением немногих островков серой и серопесчаной земли, покрыта подзолистой почвой. Ее по физическим и химическим свойствам относили к самому худшему из всех разрядов сельскохозяйственных почв в Калязинском уезде.
Отмечалось присутствие так называемых «подпоров» . Подпоры эти «вязки, слизисты и холодны, что при общей незначительности питательных веществ делает их крайне неблагоприятными» для возделывания сельскохозяйственных культур. Один крестьянин отозвался о подпоре следующим образом: «место, кажись, и не очень низкое, а весной лошадь утопишь» [7. С. 5].
Крестьяне Калязинского уезда делились по четырем разрядам:
-
1) бывшие государственные. В этот разряд попали и те крестьяне, что вышли на волю в 1861 г. и потом были переданы в казну;
-
2) бывшие помещичьи — крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости в 1861 году;
-
3) бывшие удельные;
-
4) бывшие государственные собственники.
К числу их принадлежали крестьяне, вышедшие на волю ранее 1861 года в виду различных обстоятельств и условий (свободные хлебопашцы и вольноотпущенные).
При крепостном праве, как известно, полным тяглом считался достигший рабочего возраста и женившийся мужик. Такое понятие полного тягла сохранялось и после отмены крепостного права. Подросток, холостой, вдовый и вышедший из рабочего возраста, но не потерявший платежеспособности, считался за 0,5 тягла. Однако в некоторых местностях полное тягло нес и холостой крестьянин, отбывший воинскую повинность. Так было принято в деревне Великий Двор, а, к примеру, в д. Ноговицын той же Талдомской волости даже женившийся, но не отбывший воинской повинности крестьянин считался за 0,5 тягла.
В примечании к статистическим таблицам сведений об экономическом положении крестьянских селений Калязинского уезда за 1888 год указано, что «деревня Великий Двор [церковного] прихода Талдомского [волостного], [находится] на ровном месте. Два поля «скатистые», одно ровное, низкое. Лес строевой еловый. Топливом обходятся своим. Скот пасут по полям, лесу и пустошам» [7. С. 43].
В сборнике статистических сведений по Тверской губернии за 1890 год указывалось, что в Великодворском крестьянском обществе было по-прежнему 82 двора, число семей составляло 111. Но мужского населения уже 280 душ, а женского — 350. Итого — 630 человек обоего пола. Таким образом, зафиксирован значительный прирост населения на целых 96 человек. Отмечено, однако, что почти 10% семей Калязинского уезда не живет постоянно в тех общинах, к которым приписаны, по причине так называемого «отхожего (башмачного) промысла». В Талдомской волости таких семей насчитывалось в то время 341, т. е. 8,5%. В Великом дворе семей башмачников, почти круглый год находящихся на промысле в Москве было 23, состоящих из 70 чел: 38 мужчин и 32 женщины разного возраста [7. С. 59].
К 1912–1913 годам отхожим башмачным промыслом в Великом Дворе занимались уже 116 лиц обоего пола. По словам того же
Л. Крылова, «башмачный промысел доставляет населению постоянный и довольно значительный заработок, заполняя у крестьянина все время, свободное от работ, сопряженных с обработкой земли. Обеспечив на весь год семью хлебом, топливом (из мирской, надельной и купленной земли), крестьянин-башмачник своим мастерством добывает деньги на уплату казенных податей и всяких сборов — земских, волостных, общественных, на годовые праздники, на всякие домашние расходы» [7. С. 44].
При наклонности к заведению хорошей одежи ( так в тексте — А. Т. ), обуви, к сытному питанию, — к которому башмачник привыкает, будучи мастером, — … крестьяне проживают все, что добывают. Если дела идут порядочно, наш крестьянин стремится выстроить новый дом. Дома ставят высокие, с большими окнами, разделенные на две половины — чистую и кухню. Поэтому в последние шесть лет некоторые селения перестроились почти вновь и изменились к лучшему совершенно.
В случае постройки нового дома или намечающейся свадьбы башмачник забирает у своего хозяина впредь рублей 50–100 и потом отрабатывает эти деньги.
Кроме склонности молодежи к [некоторой] роскоши, подрывающей благосостояние всего дома, внешнему и внутреннему благополучию крестьянской семьи наносят ущерб ничем не устранимые разделы. Лишь только крестьянин «поднимет на ноги» малолетних сыновей, обучит их мастерству, как эти сыновья, женившись, уходят один за другим из родительского дома, часто не прося у отца ничего, кроме свободы, и заводят самостоятельное хозяйство. По мнению священника Л. Крылова, основанному на долголетнем непосредственном наблюдении, причина частых крестьянских разделов заключается в следующем. В прежнее время, когда у крестьян было одно занятие — хлебопашество, старая семья держалась крепко. Она была многочисленна, все члены семьи беспрекословно подчинялись старшему в доме; из семьи не было «выхода». В настоящее время, при наличии башмачного промысла, внешние связи семьи ослабли: у молодых крестьян уже нет желания отдавать свои заработки всецело в [родительский дом], т. к. у них есть возможность жить самостоятельно, отдельно … — у них есть мастерство, которое прокормит их собственную семью. Тем более что и жена в этом случае является помощницей мужу-хозяину: она, будучи мастерицей, зарабатывает часто не меньше мужа. Поэтому, между прочим, «башмачники ищут себе невест, обученных башмачному мастерству, добытчиц. Девиц, необученных башмачному ремеслу берут только в те семьи, где нужны рабочие руки для крестьянского хозяйства. Не последнюю роль играют в семейных разделах также несогласия, особенно между несколькими снохами и свекровью, при [общем] и повсеместном ослаблении родительского авторитета» [5. С. 76–78].
Заметное улучшение материального положения, благодаря башмачному промыслу, привело жителей Великого Двора к концу XIX века к мысли о необходимости повышения статуса своей деревни. Главным условием для этого была постройка церкви (есть в поселении церковь, значит это село, нет — значит перед нами только деревня, ведь в деревне дозволялось иметь не больше часовни).
По данным исследования материалов Тверского архива [фонд 160, опись 8, дело 2257], история Великодворского Александро-Невского храма начинается 9 мая 1890 года. В этот день крестьяне деревни Великий Двор подали прошение на Высочайшее имя. В их «общественном приговоре» говорилось о сходе крестьян деревень Великий Двор и Людятино, а также крестьян деревень Сляднево и Лебзи-но. Ссылаясь на дальность расстояния (7 верст) до приходской церкви в волостном центре, селе Талдоме и «крайнее затруднение в удовлетворении своих религиозных потребностей», сход решил строить на свои средства свою каменную церковь. В то время в Великом Дворе была только небольшая деревянная часовня во имя Святого Великомученика Димитрия Солунского. Крестьяне просили о разрешении поставить в своем селении храм во имя Святого Благоверного князя Александра Невского в память события 17 октября 1888 года (чудесного избавления от покушения императора Александра III). К прошению был приложен подписной лист сбора пожертвований на строительство церкви. Примечательно, что несколько крестьян пожертвовали довольно большие суммы: по 1000 руб., а один даже 2000 руб. (это в те времена, когда корова, стоила 3–5 руб.). Всего было собрано 7 044 руб., что составляло более половины сметы архитектора — 16 611 руб. 32 коп. Кроме того, крестьяне обязались для обеспечения существования церкви собирать в дальнейшем по 18 коп. с каждой ревизской души.
Обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев направил это прошение в Тверскую духовную консисторию 2 июня 1890 года. При его покровительстве церковь в Великом Дворе была построена к осени 1896 года и освящена благочинным священником Н. Судницыным 2 февраля 1897 года, а в мае того же года Синод постановил отрыть при ней самостоятельный приход при одном священнике и псаломщике.
По рассказам местных жителей, клуб в здании церкви так и не появился. Некоторое время здание использовалось под зернохранилище, а примерно в 1947–1948 годах, когда потребовался кирпич на строительство колхозной животноводческой фермы, было разрушено.
Другим признаком высокого статуса села считалось наличие собственной школы. Церковно-приходская школа в Великом Дворе открылась в 1890 году [8. С. 170]. Дети обучались в течение трех лет.
Заведующим этой школой по данным за 1901–1911 годы стал священник Велико-дворской церкви Александр Васильевич Чекалов, который вел занятия по Закону Божьему бесплатно; учителями служили: псаломщик Иван Михайлович Александровский, окончивший духовное училище; жалования от школы не получал, учил детей, как и приходской священник, совершенно бесплатно. Работала в школе и Вера Александровна Чекалова, также окончившая полный курс духовного училища, находившаяся на учительской службе с 1900 года, и получавшая по данным отчета за 1901–1902 учебный год 180 руб. ежегодного жалования, а с 1903 года ее учительское жалование повысилось до 240 руб. в год. Учащихся к январю 1901 года насчитывалось
66 человек: 38 мальчиков и 28 девочек; к январю 1902 года — 65 человек: 36 мальчиков и 29 девочек. В начале декабря 1912 года в школе обучались 67 детей — 38 мальчиков и 29 девочек. К экзаменам в 1912 году готовилось 5 мальчиков, из которых 4 экзамен выдержали. Девочек на выпускном экзамене не было ни одной. Вновь в школу поступило осенью 1912 года 32 человека — 15 мальчиков и 17 девочек [6. С. 166].
В отличие от церкви, школа в Великом Дворе существует и поныне.
Одним из результатов повышения грамотности крестьян стало то, что их кругозор постоянно расширялся. В Сборнике статистических сведений по Тверской губернии [7. С. 47–48] отмечалось, что наиболее распространенными среди крестьян были книги духовного содержания, или как называли их сами крестьяне — церковные книги. Эта литература составляла главную умственную пищу крестьян.
Список книг светского содержания представлял большое разнообразие, однако указывал скорее на случайный, чем целенаправленный выбор. В числе их — «Потерянный рай» Мильтона, романы Рейдера Геггарда и, как сейчас сказали бы, «популярные» Фран-цил Венециан и Бова Королевич. Из журналов встречались как старинные, относящиеся к XVIII столетию, так и любимые в XIX веке — «Будильник», «Вокруг Света» и др. Главную массу светских книг, служащих для чтения, составляли различные рассказы и сказки издания Никольского рынка (по-местному «баутки»). «Хорошую книгу купить дорого, ну и купишь баутку за три копейки», — объяснял такой выбор книг один из крестьян [7. С. 59–60].
Сведения 1912–13 годов были последними, которые удалось получить о Великом Дворе дореволюционного периода. Тем не менее, картина жизни небольшого, но зажиточного села, прояснилась, и можно подвести итоги.
Благодаря занятию башмачным промыслом, на протяжении почти двухсот лет, в Великом Дворе произошли заметные социально-культурные и социально-экономические изменения. Несмотря на довольно скудные земельные ресурсы, материальное положение великодворских крестьян постоянно улучшалось. Росло и качество изготавливаемой ими обуви. Если в начале «башмачного периода», при Петре Первом, шили обувь практичную, но грубую, например, для военных нужд стра- ны, то уже к середине XIX века башмачники стали применять колодки, изготовленные во Франции и Италии. Фасонную обувь, изготовленную ими, практически нельзя было отличить от европейских образцов. Некоторые модели, особенно женские, выставленные сейчас в музеях Талдома и Кимр, до сих пор вызывают восхищение посетителей.
Продаваемая башмачниками обувь пользовалась большим успехом. Ее ждали не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и на среднеазиатских базарах и на сибирских ярмарках. Доходы от продажи частью шли на собственные нужды, частью на выплату тогдашних налогов и пошлин, а частью на закупку более качественной кожи, дратвы (ниток), колодок. Все это существенно влияло на дальнейшее развитие самого промысла.
Успешный путь башмачного промысла, однако, был бы невозможен, если бы не появившаяся в начале XVIII века нужда в обеспечении качественной обувью армии Петра Первого, это был своего рода «госзаказ». Крестьяне Великого Двора, наряду с другими верхневолжскими центрами башмачного промысла, вполне достойно выполнили его и перешли в XIX веке на другой уровень, начав шить, в числе прочего, изящную дамскую обувь.
Улучшив свое материальное положение, великодворские крестьяне-башмачники коренным образом повлияли на статус Великого Двора. Собранные ими деньги на постройку церкви позволили превратить деревню в село. При этом повысилось их самосознание и самоуважение. Духовному росту способствовала школа, созданная при церкви, так как со дня ее открытия число грамотных в селе стало значительно увеличиваться. Грамотность позволила иметь у себя дома, а главное, активно читать книги, выписывать газеты, что в целом положительно влияло на общекультурный уровень и кругозор жителей Великого Двора. Конечно, описанные выше социально-культурные и социально-экономические изменения имели и свой «побочный» эффект, к примеру, разрушение вековых семейных традиций: уважения старшего, неукоснительное выполнение правила — все доходы от промысла нести в отцовский дом, подчинение младших старшим и пр. Однако Великий Двор не был в этом отношении единственным в своем роде. В описанный нами временной отрезок вся Россия проходила трудный путь социокультурных и социоэко- номических трансформаций, подготовивших неизбежные социальные, а затем и политические потрясения 1917 года.
К сожалению, так и не удалось узнать, был ли Великий Двор известным в древности поселением и когда именно он возник. Архивные хранилища еще берегут свою тайну, но даже если история поселения начинается в 1719 году, когда для нужд армии царь Петр повелел привлечь к снабжению обувью башмачников Калязинского уезда, то Великому Двору уже чуть более 280 лет. Эту дату, кстати, и отпраздновали в 2009 году нынешние жители деревни.
Одним из итогов и одновременно решением еще одной задачи проведенного исследования стало издание его результатов в виде отдельной книги — историко-статистического описания деревни Великий Двор и окрестных деревень, относящихся к Великодворскому административному округу.
Книга может стать дополнительным учебно-методическим подспорьем для Велико-дворской школы на уроках краеведения, при изучении школьниками историко-культурного наследия родного края, для формирования у них благотворного чувства своей малой родины.
Список литературы Факторы социально-культурных и социально- экономических изменений русской деревни во временной перспективе (1719-1917 годы) на конкретном примере
- Генеральное соображение по Тверской губернии, извлеченное из подробного топографического и камерального по городам и уездам описания 1783-1784 гг. Тверь: Издание Тверской губернской земской управы, 1873.
- Исторические и статистические очерки Тверской губернии. Вып. 1./Сост. В. Покровский. Тверь, 1875.
- Кочин Г. Е. Материалы для терминологического словаря древней России. М.-Л., 1937.
- Крылов Л. Материалы для истории церквей Калязина и сел Калязинского уезда. Калязин, 1908. р. XIX.
- Крылов Л. Село Троицкое, что в Вязниках. Тверь, 1905.
- Материалы Тверского государственного архива. Фонд 160. Опись 8. Дело 2257.
- Начальные училища Тверской губернии в 1912-1913 учебном году. Тверь, 1913.
- Сборник статистических сведений по Тверской губернии. Т. 5: Калязинский уезд. Тверь, 1890.
- Статьи по части истории, географии и статистики Тверской губернии. Б. м., б. г. Тверская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года./Редактор Иван Вильсон. Тверь, 1862.