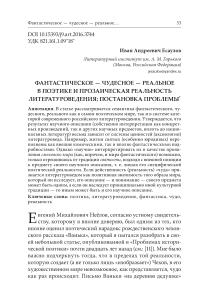Фантастическое - чудесное - реальное в поэтике и прозаическая реальность литературоведения: постановка проблемы
Автор: Есаулов Иван Андреевич
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.4, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается семантика фантастического, чудесного, реального как в самом поэтическом мире, так и в системе категорий современного российского литературоведения. Утверждается, что результат научного описания (собственно интерпретация как конкретных произведений, так и других научных предметов, вплоть до национальных литератур) весьма зависит от системы ценностей (аксиологии) литературоведа. Например, жития святых (особенно юродивых) переполнены как внешне комическими, так и вполне фантастическими подробностями. Однако «научно» интерпретировать их как проявление смехового мира (как, впрочем, и мира фантастического) возможно, только отрешившись от традиции святости, подходя с внешней позиции к предмету своего научного описания, т. е. лишая его специфической поэтической реальности. Если действенность (реальность) «чуда» признается литературоведом как позитивная значимость того образа мира, который он исследует, его описание - и понимание - своего предмета может быть одним, а если он наследует принципиально иной культурной традиции - то иным может быть и его научное описание.
Поэтика, литературоведение, фантастика, чудо, реальность
Короткий адрес: https://sciup.org/14749000
IDR: 14749000 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2016.3744
Текст научной статьи Фантастическое - чудесное - реальное в поэтике и прозаическая реальность литературоведения: постановка проблемы
Е вгений Михайлович Неёлов, согласно устному свидетельству, которому я вполне доверяю, был одним из тех, кто вполне оценил поэтический парадокс рождественского чеховского рассказа «Ванька», который я пытался разобрать в своей небольшой статье, опубликованной в «Проблемах исторической поэтики» почти двадцать лет назад (см.: [11]). Мне было важно подчеркнуть тогда, что в пределах той реальности, которую создает (а не только лишь «изображает») Чехов, в его художественном мире невозможное, как представляется, чудо как раз происходит. Письмо Ваньки «на деревню дедушке»
получено. Описанием этого чуда, случившегося в рождественскую ночь, и завершается рассказ: дедушка не только получает письмо, но и, «свесив босые ноги» с печки, « читает письмо кухаркам» (курсив мой. ― И. Е .). Рождественская «встреча» дедушки и внука, таким образом, состоялась — в единственно возможном для этой встречи поэтическом космосе произведения.
Дело в том, что сам Е. М. Неёлов, стараясь обосновать новую категорию исторической поэтики — «фантастический мир» (см.: [20]), любил и ценил подобные поэтические парадоксы. В своей последней статье — в тех же «Проблемах исторической поэтики», — интерпретируя пушкинскую сказку, он, к примеру, утверждал: «…пушкинский поп <…> оказывается, по сути дела, предателем священнического долга, дела, которому он должен служить», тогда как «некие высшие (но безусловно христианские) силы посылают Балду “расследовать” преступление попа, раскрыть его тайну, делегировав Балде право судить и наказывать. <…> за обликом деревенского дурачка проступают черты героя волшебной сказки, а в финальных сценах — даже богатыря» [22, 133]. Этой фантастической, казалось бы, трактовкой Неёлов расширил «спектр адекватности» истолкования этого произведения (см.: [7]; [14, 577–582]), успешно полемизируя, между прочим, с известным пушкинистом В. С. Непомнящим.
Серьезной заслугой Неёлова явилось то, что на протяжении длительного времени (все постсоветские десятилетия) он пытался аргументированно снять навязываемое в гуманитарных науках более века (еще с досоветского «либерального» литературоведения и доныне) противопоставление (либо даже антагонизм) фольклорного и христианского в русской национальной культуре. Как известно, мнимая оппозиционность «народного» и «церковного» (как вариант: «прогрессивного» и «реакционного») не восходит только лишь к ленинскому учению о «двух культурах», а формируется еще в недрах либеральных утопических воззрений XIX века. Поэтому весьма важен вывод Неёлова в одной из его работ: «Таким образом, русская сказка <…> служила своеобразным каналом, по которому евангельские идеи и образы <…> проникали уже на уровне жанровых структур в мир профессионального творчества» [21, 273]; «…в русской волшебной сказке христианская традиция воплощается особым <…> способом» [21, 263]. Я всегда испытывал интеллектуальную симпатию к такого рода научной деятельности — хотя бы потому, что она — в университетско-научной среде — восстанавливает единство национального образа мира, проступающего в русской культуре как таковой.
В советской гуманитарной науке поэтика почти тотально виделась сквозь призму мифо поэтики, так или иначе устремленной к мифу вообще, имеющему изначально устные, фольклорные коннотации, в том числе и в славянской культуре. В последние десятилетия наше литературоведение пополнилось немалым количеством исследований, в которых рассматриваются архетипы поэтики русской классики, однако эти архетипы изучаются почти исключительно сквозь призму мифа , т. е. устной дохристианской сферы (см. в качестве характерных примеров: [18]; [19]).
Мне такая научная установка представляется частным случаем забавного и даже по-своему трогательного анахронизма. Да, совершенно бесспорно, что и Новый Завет также можно рассматривать в духе «Золотой ветви» Дж. Фрэзера, хотя каждый понимает, насколько это в наше время научно непродуктивно и на сколько десятилетий отстает от передовой линии современной гуманитарной науки. Но точно таким же анахронизмом является рассмотрение «фольклоризма» (мифопоэтики или архетипов) того или иного русского автора без учета именно новозаветной специфики. При этом игнорируются почти девять столетий именно христианской книжности на Руси и десять столетий доминирования не язычества, а именно Slavia Orthodoxa (Р. Пиккио) в восточнославянском мире.
Попытаюсь на некоторых примерах показать проблемность ряда научных положений в изучении поэтики, кажущихся зачастую очевидными. Недавно успешно защищена докторская диссертация В. Д. Денисова «Ранняя гоголевская проза (1829–1834): пути развития, жанровое своеобразие, типология героев» (см.: [5]). В работе Денисова имеется большой раздел, посвященный анализу соотношения «языческого» и «христианского». Будучи вполне солидарен с ним в понимании значимости этого соотношения, я все-таки позволю себе ряд частных несогласий. Например, с резким определением в качестве «демонических» некоторых особенностей поведения гоголевских персонажей. Вполне понимая, например, что догматически-церковное отношение к самоубийству, к «знахарям и колдунам», к «разгулу» и «бражничеству» является резко отрицательным и однозначно негативным, я, тем не менее, хотел бы обратить внимание на различие кругозора персонажей и позиции исследователя (литературоведа). Даже «готовность <…> расстаться с жизнью» [5, 26] у героев «Вечера накануне Ивана Купалы» невозможно, как представляется, интерпретировать как вариант демонического отречения от Бога. Полагаю, что не только указанные выше персонажи не рассуждают и не мыслят своего поведения в таких формулировках и оценках, но и авторская интенция вряд ли в данном случае адекватно может быть описана при помощи подобного инструментария. Полагаю также, что и бражничество, и разгул в ментальности не только казаками, но и самим Гоголем могут быть поняты как грех (однако допустимый и, так сказать, освященный обычаем грех), но никак не «отречение от Бога».
В общем, «пограничные» ситуации, в нашем литературоведении актуализированные в подобной исследовательской стилистике после пионерских работ М. М. Бахтина в трудах Ю. В. Манна и его последователей, нуждаются, на мой взгляд, в несколько более глубоком осмыслении, чем это часто происходит. Разделение «языческого» и «христианского», «ночного» и «дневного» акцентируется научным (литературоведческим) языком описания, но в самом поэтическом мире Гоголя (а также в миропонимании гоголевских казаков) эти пласты жизни ― как и фольклорное, и книжное ― отнюдь не являются какими-то антагонистическими, противоположными друг другу полюсами бытия, они гармонизируются в единстве человеческой личности определенного культурного типа. Все-таки не стоит забывать, что наша обычная исследовательская практика их вычленения имеет отчасти условный характер, но отнюдь не это разделение доминирует в мире Гоголя. Говоря московско-тартуским семиотическим языком, эта оппозиция вовсе не является структурообразующей для гоголевского поэтического космоса. А также не является структурообразующей для русской культуры как таковой. Это, подчеркну, относится не только к кругозору героев, но и к авторской интенции.
Приведу еще пример. Опираясь на определенную научную традицию, рассуждая о слове «вечер», В. Д. Денисов замечает: «…мифологическое <…> начинается <…> с заглавия <…> ибо вечер — граница дня и ночи — это “сумеречное”, пограничное (курсив мой. — И. Е .) состояние между светом и тьмой, жизнью и смертью, правдой и ложью» [5, 28]. Да, иногда в художественной литературе бывает именно так. В других случаях бывает не совсем так. А зачастую ― совсем не так. В общем же, можно сказать, что перед нами классический пример ложного универсализма. Это такой «закон», который не «работает» во многих случаях. Его так же нельзя воспринимать как универсальный, как нельзя, на мой взгляд, упрощать соотношение «фольклорного» и «книжного», «языческого» и «христианского», «реального» и «фантастического».
Вряд ли корректно ритуальный бой Тараса Бульбы и Остапа истолковывать как нарушение пятой заповеди ― «Чти отца своего и мать свою…», к чему склоняется Денисов (см.: [5, 119–120]), а уж тем более связывать это с «гибельным следствием» [5, 120] — «Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти» (Исх. 21:12, 15). Думается, что Денисов, процитировавший этот жесткий ветхозаветный текст, с большей продуктивностью мог бы сопоставить подобное «законничество» и волю («широкую волю!») казака как начало, по духу своему противоположное жесткой законни-ческой регламентации жизни. С другой стороны, это еще один пример ложного универсализма, в свое время «преодоленного» уже приходом Христа. Ясно, что Андрий и Остап чтят отца с матерью, но отнюдь не руководствуются при этом ветхозаветными критериями, грозящими неизбежным суровым наказанием виновного.
Понятие «национальный образ мира» (см.: [25]) позволяет не делить этнопоэтику на «фольклорную» и «литературную», «языческую» и «православную», не ограничивать архетипическую палитру поэтики русской литературы исключительно мифологическими конструктами, а рассматривать традиции народного творчества и христианской культуры как единую культурную почву, породившую русскую литературу и объясняющую феномен отечественной словесности в единстве национального образа мира.
Остановимся далее на концепции «гротескного реализма» М. М. Бахтина. Вводя эту категорию, Бахтин акцентировал особую значимость «неофициальной культуры». Ее недооценка связана, по мысли ученого, с неверной позицией именно субъекта описания: явления народной культуры «изучались в свете культурных, эстетических и литературных норм нового времени, то есть мерились не своею мерою, а чуждыми им мерами нового времени. Их модернизировали и потому давали им неверное истолкование и оценку» [2, 24]. Однако я задаюсь вопросом: не является ли абсолютизация самодостаточной значимости «материально-телесной стихии» также своего рода «модернизацией»?
Во всяком случае, А. Я. Гуревич совершенно справедливо, на мой взгляд, указал на не вполне ясное место «народной культуры» в общем контексте культуры средневековой (иными словами, христианской ) (см.: [4]). Вызывала возражение и жесткость противопоставления двух культур Бахтиным, а также вытекающие из этого исключительно негативные коннотации «официальной» системы ценностей.
По мнению Гуревича, средневековый гротеск отнюдь не сводится к карнавализированному комизму [3, 271–325]. Исследователь отметил, что гротескность мировидения средневекового человека вытекает уже из самой сути христианского учения. Гротескность средневековья, если принять эту исследовательскую установку, — в своеобразной «конфронтации» земного и потустороннего миров. С моей же точки зрения, вернее говорить хотя и о парадоксальном , но несомненном сопряжении земного и небесного. Причем эта «парадоксальность»
вытекает из несколько остраненной позиции современного субъекта описания, но не из свойств самой системы.
В таком случае не только «народная смеховая культура» (в том смысле, который вкладывал в это понятие Бахтин), но и культура вполне «серьезная», если последнюю определить как христианскую, никогда не игнорирует, вопреки расхожему мнению, телесную сторону бытия человека. Это совершенно понятно хотя бы потому, что важнейшими для христианства являются рождение (Боговоплощение, то есть приятие Христом человеческой телесной природы), смерть и Воскресение Христа. Если гностически-манихейская установка отрицает позитивность телесности человека, то последовательно христианское сознание исходит из совершенно иного понимания соотношения телесного и духовного.
Современные исследователи часто склонны трактовать отдельные элементы единой средневековой (христианской) картины мира, в которой сопрягаются «народное» и «официальное», «посюстороннее» и «потустороннее», «телесное» и «духовное», «реальное» и «фантастическое», как проявление комического гротеска. Совершенно очевидно, что с аксиологической позиции, сопричастной ценностям христианской культуры [6], зачастую гротеск теряет свои комические коннотации. Так, жития святых (особенно юродивых) переполнены как внешне комическими , так и вполне фантастическими подробностями. Однако воспринимать их как проявление смехового мира (как, впрочем, и мира фантастического ) возможно, только отрешившись от традиции святости , иными словами, как раз подходя с внешней позиции (с «мерой нового времени») к предмету своего научного описания.
При этом и саму характеристику гротеска Бахтиным можно (и нужно!) поставить в христианский контекст понимания, соприродный Slavia Orthodoxa. Так, характеризуя народные истоки гоголевского мира, ученый замечает: «Гротеск у Гоголя есть, следовательно, не простое нарушение нормы, а отрицание всяких абстрактных, неподвижных норм, претендующих на абсолютность и вечность. Он отрицает очевидность и мир “само собой разумеющегося” ради неожиданности и непредвиденности правды. Он как бы говорит, что добра надо ждать не от устойчивого и привычного, а от “чуда”» [1, 495]. Как это понять? Если отрешиться от анахронизма, который я уже обозначил выше, согласно которому народное должно быть обязательно противопоставлено христианскому, то именно христианское видение мира отрицает законнические «абстрактные, неподвижные нормы», отрицает «очевидность» и непреложность смерти.
«Чудо» одоления смерти является в этом контексте, конечно, именно отрицанием нормы, претендующей «на абсолютность и вечность». Однако смерть впервые побеждена — и, тем самым, «карнавально» осмеяна ее значимость — именно в христианском контексте понимания. Разумеется, христианский социум — и сама христианская картина мира — неоднородны (Е. М. Неёлов старался показать и эту неоднородность). Однако, вполне отдавая отчет в подобной неоднородности, следует заметить, что ценностные ориентации архиерея и кузнеца Вакулы в повести «Ночь перед Рождеством» вряд ли кардинально различны в качестве «официальной» и «народной»: они могут быть поняты не в контекстах «двух культур», как это делал сам Бахтин, следуя за советской гуманитарной доктриной, но в контексте единой христианской культуры.
Разумеется, установка субъекта описания не может быть идентичной точкам зрения действующих лиц. Тем не менее, если действенность «чуда» вполне признается литературоведом как позитивная значимость гротескного образа мира, его истолкование своего предмета может быть одним (и в данном случае можно говорить о подлинном понимании), а если он исходит из установок принципиально иной гуманитарной аксиологии — то иным окажется и полученный им результат. И тогда истолкование будет абсолютно внешним по отношению к миру Гоголя. Причем не только внешним его художественному миру, но и этическим и религиозным убеждениям Гоголя. И не только Гоголя.
Однако продуктивной позиции литературоведа, обращающегося к русской словесности, препятствует и ветхая система категорий, которой до сих пор, к сожалению, по старинке оперирует наша филология. Одной из таких является понятие «критического реализма» (см.: [8]). Тогда как многие вершинные тексты русской классики базируются на совершенно другом творческом принципе ― христианском реализме.
Что же понимается под христианским реализмом? Приоритет во введении предлагаемого обозначения художественного принципа принадлежит В. Н. Захарову, который предлагает так именовать известный «реализм в высшем смысле» Достоевского. Тот же исследователь совершенно справедливо, на мой взгляд, генерализует предложенную терминологию: «Христианский реализм — это реализм, в котором жив Бог, зримо присутствие Христа, явлено откровение Слова » [15, 175]. Как философский принцип христианский реализм был осмыслен значительно раньше в последнем труде С. Л. Франка «Свет во тьме», где он обратился к духовному опыту русской литературы (см.: [24]). Следует подчеркнуть, что само понятие христианского реализма — явление совершенно иного семантического ряда, нежели принятые обозначения литературных направлений (классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма): речь идет о трансисторическом творческом принципе, который проявляет себя в литературе и искусстве христианского типа культуры.
В творчестве Пушкина множество чудесных совпадений и чудесных развязок (вспомним хотя бы «Повести Белкина», «Капитанскую дочку»). Но как относиться к подобным сюжетным построениям? Как к наследию авантюрной традиции? Как к новеллистическим особенностям? Как к издержкам романтических представлений о мире? Как к проявлениям «фантастического»? Как к отзвуку гротеска в литературе?
Однако совершенно иное научное объяснение вытекает из признания исследователем реальности чуда. Если чудо — как свобода Бога — вполне реальный факт, высшая непреложность которого вполне доказана Воскресением Христа, то многие события, кажущиеся на поверхностный взгляд неправдоподобными, либо фантастическими в художественном мире Пушкина и Гоголя, могут быть охарактеризованы как проявления христианского реализма. Тогда понятен скепсис В. М. Марковича, который усомнился в том, что
«основой реализма является социально-исторический и психологический детерминизм» [17, 27], ведь именно чудо — как раз та духовная реальность, которая «отменяет» любой детерминизм (см. напр.: [9]).
В. Н. Захаров справедливо замечает, что возвращение блудной дочери, несмотря на смерть отца, тем не менее, происходит в пушкинском «Станционном смотрителе» [15, 176]. Стоит отметить, что если мы подойдем к этому тексту с внеположными христианской традиции литературоведческими установками, нужно признать запоздалость и финальную неудачу подобного возвращения: Самсон Вырин в своей земной жизни так его и не дождался. Однако если мы христианскую традицию признаем как духовную грибницу русской культуры, если мы помним, что для Бога нет мертвых, залогом чего является Воскресение Христово, тогда возвращение блудной дочери является несомненным художественным и духовным фактом. Но этот факт — явление именно христианского, а отнюдь не «критического» реализма. Поэтому состоявшееся возвращение героини, которая, несмотря на удачливую жизнь с Минским, «легла» на могиле отца и «лежала долго», свидетельствует, как и евангельская история, о том, что она этим возвращением, которого никак нельзя было ожидать, искупает грех побега [12].
В «Капитанской дочке» автором эксплицируется действенность молитвы. Молитва, как и благословение, возникает в кульминационных, решающих ситуациях. Так, Гринев перед решающим приступом крепости, прощаясь с Машей, говорит: «Что бы со мною ни было, верь, что <…> последняя молитва будет о тебе!»1. Он же, ожидая очереди на виселицу, сдерживает свое слово: «Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося Богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля Его о спасении всех близких моему сердцу» (465). Тот же Гринев, будучи под арестом, «…прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, излиянной из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет» (528). Наконец, «матушка <…> молила Бога о благополучном конце замышленного дела» (534-535) (милости
Государыни, за которой отправляется Маша Миронова). Можно заметить, что молитва матушки, как и другие молитвы, помогает герою: Государыня завершает дело: «…дело Ваше кончено» (539). Мы можем сделать вывод о чудесном вмешательстве, но реальность подобного чуда укоренена в самом христианском типе культуры и свидетельствует о христианском реализме этого произведения (см. подробнее: [13, 52-71]).
Точно так же в финале «Мертвых душ» происходит художественно организованное пасхальное чудо воскресения «мертвого душою» центрального персонажа поэмы. Это чудо нельзя позитивистски «объяснить» (нельзя объяснить ни социально-исторически, ни психологически), так как в тексте нет жестких границ, отделяющих описание тройки Чичикова от описания «птицы-тройки», но можно понять, однако такое понимание сопряжено с верой в чудо воскресения. Финальное вознесение Чичикова возможно точно так же, как и воскресение русского народа: ведь пасхальность России в «Выбранных местах из переписки с друзьями» соседствует с убеждением, что «никого мы <русские> не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех <…> “Хуже мы всех прочих” — вот что мы должны всегда говорить о себе»2. Но осознание греховности в итоге приводит к ее преодолению, когда оказывается возможным — чудесным образом — «сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, всё позорящее высокую (т. е. Божественную. — И. Е. ) природу челове-ка»3, когда — во время пасхального торжества — «вся Россия — один человек»4. Таким образом, структура «Мертвых душ» и структура «Выбранных мест…» имеют пасхальную основу (см. подробнее: [10, 227-257]), что позволяет их считать явлениями христианского реализма.
Может быть, основой вершинных произведений русской литературы является сопряжение человеческого и Божественного планов бытия в единый художественный образ? Это сопряжение стало возможным в итоге художественного освоения доминанты новозаветного образа мира, который строится на признании человеческой и Божественной природы Христа.
Древнерусская литература осваивает внешние стороны земных последствий этого сопряжения. Она переполнена описаниями чудес, но позиция автора такова, что то или иное чудо не «фантастично», а абсолютно реально, как реально сопряжение человеческого и Божественного начал. Если позиция исследователя, скажем, такова, что агиографическое описание является условностью, то его толкование будет, конечно, тем или иным объяснением текста, но именно внешним объяснением. Если же он найдет в себе, используя выражение А. П. Скафтымова, «широту понимания» и поверит реальности жития святого, то его толкование текста может претендовать не только на внешнее объяснение, но именно на глубинное понимание текста. В противном случае мы имеем порой весьма квалифицированные объяснения текста, в которых, однако, центральный момент древнерусской словесности — воцерковление читателя — выносится за скобки исследовательского внимания. Однако если исследователь не верит в искренность книжника, считая те или иные особенности его письма лишь следованием внешнему «литературному этикету», то он, очевидно, не может претендовать и на подлинное понимание изучаемых им текстов.
Русская же классика XIX века, обогатившись художественными открытиями Нового времени, смогла создать шедевры, которые как в тексте, так и в своих подтекстах наследуют трансисторической христианской традиции в понимании мира и человека. В этих произведениях чудо явлено не в са-крализованном, но зачастую в уже прозаизированном мире. Но этот секуляризуемый мир, тем не менее, помнит о своих христианских истоках. Поэтому как бы ни пытались — со времени «формальной школы» — свести лишь к «побочному художественному приему» слова «Я брат твой», сама христианская основа русской культуры как будто сопротивляется сведению смысла «Шинели» до «языковой игры», до «анекдотического стиля» с «элементами патетической декламации» [26, 55]5. Главное же, при подобной абсолютно «внешней» к системе ценностей своего предмета позиции субъекта научного описания, в сущности, подменяется и сам предмет: на первый план в «изучении» выдвигаются по тем или иным причинам близкие субъекту описания моменты его поэтики
(скажем, стихия анекдота), тогда как уходящие в смысловую глубину христианские подтексты редуцируются до «патетики», «мифопоэтики», архаических моделей, что я уже рассматривал выше.
Как доказывал Е. М. Неёлов, даже по отношению к миру собственно фантастическому требуется — для его адекватного восприятия — особого рода рецептивное доверие: «…слу-шатель сказки не верит в реальную возможность изображаемых событий, и его опыт укрепляет его в этой позиции, но герой сказки верит, и его опыт подтверждает правомерность этой веры “внутри” сказки. Точки зрения противоположны, как полюсы магнита, но из этого столкновения “веры” героя и “неверия” слушателя рождается то, с чего собственно и начинается художественное восприятие — ДОВЕРИЕ: герой говорит “да” (и он прав в своем мире), слушатель говорит “нет” (и он прав в своем, реальном мире), и от этого столкновения “да” и “нет” рождается “если”, <…> доверие к судьбе героя в мире, в котором он живет» [23, 14]6. Тем более необходимость подобного читательского доверия — хотя бы к фундаментальным ценностям русского мира — требуется при адекватном восприятии древнерусской словесности и русской классики.
Поэтому если действенность (реальность) «чуда» вполне признается литературоведом как позитивная значимость того образа мира, который он исследует, его описание — и понимание — своего предмета может быть одним, а если он наследует принципиально иной культурной традиции — то иным может быть и его научное описание.
Примечания
* Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 15-04-00212.
-
1 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. 3-е изд. Т. 6. М.: Наука, 1964. С. 458. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием страницы в круглых скобках.
-
2 Гоголь Н. В. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 6. М.: Русская книга, 1994. С. 192.
-
3 Там же.
-
4 Там же.
-
5 Интересно, что Б. Эйхенбаум, рассуждая о «гуманном месте» как «побочном» приеме, ни разу не приводит в своей статьей гоголевские слова «Я брат твой», отзываясь о содержании этого «места» как о «сентиментальном и намеренно примитивном» [26, 58]. Подобная «примитивизация» христианской традиции, по-видимому, больше свидетельствует о собственной системе ценностей субъекта объяснения, нежели адекватно описывает «объясняемый» им предмет.
-
6 В. Н. Захаров, формулируя особенности поэтики Достоевского, парадоксально совмещает «фантастическое» и «христианское» как «два эпитета, две стороны одной медали, два образа “реализма в высшем смысле” Достоевского: лицевая сторона мерцает загадочным словом фантастический, на обороте откровенное выражение сущности — христианский» [16, 386].
FICTIONAL — MIRACULOUS — REAL
IN POETICS AND THE PROSAIC REALITY
OF LITERATURE STUDY:
FORMULATION THE PROBLEM