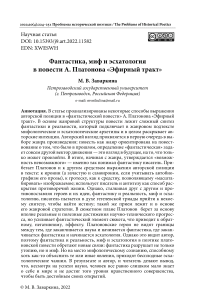Фантастика, миф и эсхатология в повести А. Платонова "Эфирный тракт"
Автор: Заваркина Марина Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализированы некоторые способы выражения авторской позиции в «фантастической повести» А. Платонова «Эфирный тракт». В основе жанровой структуры повести лежит сложный синтез фантастики и реальности, который подключает в жанровом подтексте мифологические и эсхатологические архетипы и в целом раскрывает авторские интенции. Авторский взгляд проявляется в первую очередь в выборе жанра произведения: повесть как жанр ориентирована на повествование о том, что было в прошлом, определение «фантастическая» задает совсем другой вектор движения - это взгляд в будущее, на то, что только может произойти. В итоге, начиная с жанра, утверждается «возможность невозможного» - именно так понимал фантастику писатель. Прибегает Платонов и к другим средствам выражения авторской позиции в тексте: к иронии (а зачастую и самоиронии, если учитывать автобиографизм его прозы), к гротеску, как к средству, позволяющему «масштабировать» изображаемое; использует писатель и антитезу как способ раскрытия противоречий жизни. Однако, сталкивая друг с другом и противопоставляя героев и их идеи, фантастику и реальность, миф и эсхатологию, писатель пытается в духе гегелевской триады прийти к некоему синтезу, чтобы найти истину; такой же прием лежит и в основе его жанровой стратегии. В сюжетном плане Платонов берет за основу вполне реальные и полезные достижения научно-технического прогресса, но усиливает фантастический элемент сюжета, что приводит к обратному, негативному, эффекту. Платоновские герои не видят границы между тем, где заканчивается наука и начинается фантастика, где заканчивается фантастика и начинается эсхатология. Однако это видит автор, поэтому фантастика и реальность, миф и эсхатология в поэтике платоновской повести обретают новые связи: фантастика разрушает не только утопию, но и миф. Но на место мифологическому сознанию, способному хоть как-то объяснить те или иные явления, приходят бесплодные эсхатологические чаяния. В результате и автор, и читатель делают вывод, что, несмотря на успехи науки, человек все равно слишком мало знает о себе и мире и не достиг того уровня нравственного совершенства, чтобы быть достойным своих открытий.
А. платонов, эфирный тракт, повесть, фантастика, миф, эсхатология, утопия, авторская позиция
Короткий адрес: https://sciup.org/147238884
IDR: 147238884 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.11582
Текст научной статьи Фантастика, миф и эсхатология в повести А. Платонова "Эфирный тракт"
П овесть Андрея Платонова «Эфирный тракт», датируемая
1927 г., стала итоговой в ряду научно-фантастической прозы писателя. К этому времени у него, как указывает Н. В. Корниенко, «накопилось немало набросков на темы старого и нового быта, фантастических сюжетов, философских и научнотехнических проектов — фантастика, ставшая впервые в русской литературе популярной именно в 1920-е гг., привлекла и А. П. Платонова» [Корниенко, 2015: 39]. Повесть изучалась исследователями с разных сторон: анализировалась история создания, текстология повести и источники ее сюжета (см.: [Корниенко, 1993: 36–55], [Матвеева, 2009], [Московская, 2016b] и др.); образная система и типология персонажей (см.: [Яблоков], [Малыгина, 1995: 26–47], [Йосихара], [Коваленко], [Проскурина: 81–105], [Вороная], [Хейдари, 2019] и др.); поэтика времени и пространства (хронотоп повести) (см.: [Ласкина], [Ильюшик] и др.); тема взаимоотношения человека и природы (см.: [Заваркина], [Фурукава] и др.); жанровые особенности, утопия, антиутопия, миф и эсхатология (см.: [Малыгина, 1995, 2005], [Хрящева], [Ярошенко], [Павлова, 2005], [Заваркина], [Хейдари, 2016] и др.); различные «идеологические контексты» произведения (см.: [Корниенко, 1993: 36–55], [Толстая-Сегал], [Малыгина, 1995, 2005], [Брель], [Матвеева, 2009, 2011], [Московская, 2016а, 2016b] и др.). Фантастика Платонова в целом также не раз становилась предметом исследования (см., например: [Геллер Л.], [Степанова], [Малыгина, 1995, 2005], [Мамонтова], [Ревич], [Ковтун], [Брель], [Павлова, 2005, 2008, 2012], [Заваркина] и др.). Однако, рассматривая фантастику, утопию, миф и эсхатологию по отдельности, вне жанрового контекста и вне их возможного «пересечения», сложно делать выводы об особенностях жанровой структуры повестей Платонова не только 1920-х, но и 1930-х гг.
В определении термина «фантастика» мнения исследователей схожи в одном: фантастическое — это «вымышленное», то, «чего не бывает и не может быть» [Анненский: 207]; фантастика в произведении возникает тогда, когда происходит «несовпадение, расхождение точек зрения "изнутри" (глазами героя) и "извне" (глазами слушателя, читателя) на возможность или невозможность художественного мира» [Неёлов: 39]. По мнению В. Н. Захарова, «критерий фантастического — объективная действительность, которая позволяет определить принадлежность данного явления либо к реальному миру, либо к фантазии человека» [Захаров, 1986: 49]. Ц. Тодоров называет это «колебаниями», которые испытывает читатель и которые становятся первейшим условием фантастического жанра [Тодоров: 30]. Концепция Тодорова в свое время вызвала ряд критических замечаний у исследователей (подробнее об этом см.: [Захарова: 108–109]).
Понятия «фантастика», «миф», «эсхатология» и «утопия» (а также ее разновидности) лежат примерно в одной плоскости: в произведении они либо соседствуют на равных, либо одно подчиняется другому. Утопия часто содержит элементы фантастики и переходит в пределах одного произведения в свою противоположность и обратно, а может дорастать до эсхатологического предвидения и соперничать с ним. Утопия опирается не столько на науку, сколько на воображение [Шестаков: 36], в этом ее схожесть с фантастикой. Фантастика при этом может «помогать» утопии «оставаться утопией», а может ее разрушать [Кагарлицкий: 289, 288]; быть научной или социальной. Кроме того, «истоки фантастики лежат в мифе, но сам миф еще не есть фантастика» [Захаров, 1986: 49], хотя последняя — «неотъемлемая принадлежность искусства, возникшего в результате кризиса мифологического сознания» [Захаров, 2016: 10].
Так же сложно, как фантастика и миф, соотносятся друг с другом утопия и эсхатология. Для утопического сознания одновременно характерен и «принцип надежды» [Блох], и принцип «отчаяния и надежды» [Ласки: 174], то же самое можно сказать и об эсхатологических чаяниях. Однако В. П. Шестаков называет утопию и эсхатологию «противоположностями», которые «составляют» «русский характер» [Шестаков: 5]. Д. А. Шелудченко придерживается иной позиции и считает, что утопические и эсхатологические проекты, являясь философским способом осмысления мира, «показывают нам преимущественно критический взгляд» на происходящее: «Несмотря на свою во многом противоположность, они ведут к одному — заставляют размышлять над существующей действительностью» [Шелудченко: 105, 109]. Утопия и эсхатология одинаково зиждутся на вере в лучшее будущее. При этом для России, по мнению В. П. Шестакова, «характерна тенденция создания сатирических или негативных утопий», что «определяется эсхатологической традицией русской историософии: апокалипсическое видение предполагало ироническое отношение к оптимистическому прогнозу исторических судеб человечества» [Шестаков: 5].
А. Платонов не создавал ни чистых утопий, ни сугубо негативных антиутопий, поэтому разговор об утопической или антиутопической направленности того или иного произведения зачастую не дает ничего существенно нового. Однако некоторые исследователи указывают на преобладание в ранних произведениях Платонова черт утопического жанра над фантастическим: «В 1920-е годы А. Платонов, вероятно, сознательно обращается к жанру научной фантастики, воспринимая его как наиболее приемлемую форму для пропаганды своей утопии» [Павлова, 2012: 25], (см. также: [Павлова, 2008: 163]). Другие исследователи поднимают вопрос о синтезе научной фантастики и мифологической условности в произведениях писателя, а также об утопии и эсхатологии. Так, анализ сюжета платоновской повести, по мнению Н. М. Малыгиной, «дает основание для вывода, что в основе ее лежит мифологическая структура» [Малыгина, 2005: 63], а произведения Платонова в целом «содержат богатый материал для выяснения характера соотношения утопии и эсхатологии» [Малыгина, 1995: 17], (см. также: [Малыгина, 2005: 116]). Фантастика, утопия, миф и эсхатология прекрасно «уживаются» в текстах Платонова, но это соседство не умаляет в них роли фантастического. Сходство — в эскапистской функции как фантастики, так и утопии и мифа. Свойственен эскапизм и эсхатологии. Но если «утопический мир, подобно сказочному, располагается вне пространства и времени» [Долгина: 33], то у Платонова и время, и пространство вполне реальны. Несмотря на фантастический сюжет, Платонов верит в «безграничные возможности своих современников», именно поэтому он отодвигает время действия в повести не в далекое будущее, а в 1930-е гг. [Матвеева, 2011: 515]. Кроме того, многие научные идеи, описанные в повести, вовсе не были утопичными: так, Н. М. Малыгина приводит воспоминание вдовы писателя М. А. Платоновой о том, что повесть «Эфирный тракт» «отказывались печатать из-за опасения, что будет украдено описанное там изобретение Кирпичникова» [Малыгина, 2005: 18].
Однако иронический пафос все же присутствует в произведениях Платонова, начиная уже с ранней научно-фантастической прозы. Прибегает Платонов не только к иронии (а зачастую и самоиронии, если учитывать автобиографизм его прозы), но и к гротеску, как к средству, позволяющему «масштабировать» изображаемое, рассмотреть его через увеличительное стекло, чтобы лучше были видны изъяны. Кроме иронии и гротеска, Платонов использует антитезу как способ раскрытия противоречий жизни. Однако, сталкивая друг с другом и противопоставляя героев и их идеи, а также фантастику и реальность, миф и эсхатологию, писатель пытается в духе гегелевской триады прийти к некоему синтезу, чтобы найти истину. Такой же прием лежит и в основе его жанровой стратегии.
Так, авторские интенции проявляются, начиная с выбора жанра произведения. Как писал П. Н. Медведев, художник «должен научиться видеть действительность глазами жанра», потому что «каждый жанр обладает своими способами, своими средствами видения и понимания действительности, доступными только ему» [Медведев: 206, 204]. «Эфирный тракт» имеет подзаголовок «фантастическая повесть»: он уточняет не только жанр, но и авторский взгляд на описываемые события, в результате чего возникает та самая «вторичная условность», которая «полностью находится в компетенции автора» [Захаров, 1986: 48], (см. также: [Захаров, 2012: 20]). Обозначая жанр своего произведения как «фантастическая повесть», Платонов прибегает к сочетанию противоположного. Ведь повесть как жанр ориентирована на повествование о том, что было в прошлом, а значит, было в реальности: «…буквальный смысл слова "по-весть" оказывал определяющее воздействие на формирование жанровой концепции произведений» [Захаров, 1985: 17]. Определение «фантастическая» задает другой вектор движения — это взгляд в будущее, на то, что только может быть. Таким образом, утверждается «возможность невозможного», а значит, для утопии почти не остается места1.
Предваряют повесть «Эфирный тракт» ранние научно-фантастические рассказы Платонова — они становятся ее источниками. Так, в рассказе с говорящим названием «Невозможное» (1921) Платонов описал свою собственную идею создания резонатора-трансформатора, который с помощью электромагнитных волн может воздействовать на объекты живой и неживой природы. Через 6 лет в повести «Эфирный тракт» писатель доведет эту идею до апогея, раскрывая теорию инженера Ма-тиссена и показывая ее ужасные последствия. Платонов берет за основу вполне реальные и полезные достижения научнотехнического прогресса, но усиливает фантастический элемент сюжета, что приводит к обратному, негативному, эффекту.
По мнению В. Н. Захарова, в художественном тексте «наука оказывается всемогущей, но условной (художественной) силой развития сюжета, научная идея становится своеобразной сюжетной метафорой произведения» [Захаров, 1986: 54]2. Однако если для фантастики характерна «метафоризация науки» [Бри-тиков: 196], (см. также: [Неёлов: 49], [Захаров, 1986: 54]), то в повести Платонова, наоборот, происходит ее «деметафоризация» (термин С. Г. Бочарова [Бочаров: 349]): эфирный тракт становится для героев не только метафорой дороги к новой счастливой жизни [Ильюшик: 113], но и реальным руслом, с помощью которого можно либо «вскормить» электроны, как живые существа, и искусственно вырастить их до любого размера, либо уничтожить, превратив тем самым неживое в живое и обратно. Такое же воздействие в будущем ученые хотят производить и на человеческое тело, преодолевая смерть. Речь идет не только и не столько о возможности совершать, например, реанимационные действия с помощью электрического тока, что является вполне полезным и реальным открытием, сколько о завоевании абсолютного бессмертия на земле, основывающегося на эсхатологических чаяниях ожидания конца света3.
Платонов обратился в повести к одной из важных тем своего творчества — борьбе человека со смертью и всеобщей энтропией. Впервые понятие «энтропия», как указывает С. Брель, ввел Рудольф Юлиус Клаузиус (1865 г.), а в «России учение об энтропии становится популярным после публикации статьи физика и биолога Ф. Ива (1923)» [Брель: 328]. Другой научный источник повести, по мнению С. Бреля, открытие Э. Резерфордом атомной структуры, которую ученый уподобил «солнечной системе: солнце — ядро, планеты — электроны» [Брель: 330]. Ответы писатель искал также в «философии активного жиз-нестроения Федорова и космологии и этике Циолковского» [Московская, 2016а: 484], в открытии Н. Теслы «беспроводной передачи энергии» и в его разработке «принципов дистанционного управления» [Матвеева, 2011: 515].
Для того чтобы облечь фантастический сюжет в реалистическую форму, Платонов прибегает к приему монтажа (см. об этом также: [Малыгина, 2005: 15], [Московская, 2016а: 478]), о котором впервые писал в статье «Фабрика литературы» (1926), и соединяет в единое целое различные документальные4
и псевдодокументальные источники, подключаясь, таким образом, к эпической традиции. Платонов начинает повесть как исторический документ о племенах, которые некогда жили в «бассейнах рек Верхнего Дона, Оки, Цны и Польного Вороне-жа»5. Писатель использует этот прием еще раз ближе к середине повести — в описании погибшей цивилизации аюнитов и их научных трактатов, обнаруженных учеными на месте раскопок туннеля в процессе поисков эфирного тракта. Однако, по мнению Д. Московской, повесть начинается с «эпического диссонанса» — именно так звучит фраза: «Это неправда, что в этих равнинах и полулесных краях живет сплошной русский народ» (7). «В этот момент, — пишет Московская, — эпос уступает свои права "мифу" нового времени — этнологическому очерку. Легенда подвергается научной критике…» [Московская, 2016b: 60]. При этом персональная история главного героя повести Михаила Кирпичникова облечена в форму жития6 современного «святого» — сподвижника науки, которого нужно рассматривать в ряду других героев-пассионариев7 повести: с одной стороны, они передают главному герою свои черты и мечты, что дополняет его образ, с другой — показывают возможные полюса развития судьбы героя.
Первоначально мы видим Кирпичникова через проекцию жизни и образа мыслей его кумира, Фаддея Попова, который приблизился к открытию эфирного тракта. Для достижения своей цели и проведения опытов Попов приезжает в родной город Кирпичникова — Гробовск и останавливается в гостинице «Новый Афон» (10). Явное, на первый взгляд, противоречие в названиях не является антитезой, где жизни противопо ставлена смерть. Перед нами амбивалентная бинарная оппоз иция
«жизнь / смерть», которая в творчестве Платонова является приметой мифологического сознания, свойственного человеку новой эпохи. Герои Платонова мечтают построить рай на земле, в котором не будет места смерти, — не случайно Попов пишет книгу под названием «Сокрушение адова дна» (10). Как указывает Д. Московская, «в Новозаветной символике "сокрушение адова дна" означает Воскресение Христово, "Сокрушителем адова дна" являлся Христос, разрушивший царство смерти и вечной муки» [Московская, 2016а: 491]. Переустройство земного шара — главная мечта героев платоновской научнофантастической прозы — зиждется на религиозно-мессианской идее преобразования мира социализмом.
В противоречие с фантастическими мечтами Попова вступают сама действительность и характер конечной цели. Герой живет в материально и душевно не обустроенном мире, рядом с тараканами и крысами, обращаясь к самому себе «сатана души моей» (11). Мечтая о «размножении железа» при помощи эфирного тракта («.. .дело техников теперь разводить железо, золото и уголь, как скотоводы разводят свиней» (13) ) , который будет поставлять питание в виде мертвых электронов живым, Попов вспоминает демографическую теорию Мальтуса о необходимости сокращения роста населения во избежание всемирного голода. Идеальный мир для Попова — это мир, полный живых электронов и мертвых людей ( герой любит «русскую мертвую созерцательную природу» и «не особенно уважает людей» (14) ) . Каждое утро Попов просыпается с вопросом: «Люди не вымерли? Светопреставление еще не началось?» (12). Одергивает в таких случаях зарвавшихся ученых в произведениях Платонова робкий голос из народа, в данном случае старушки Захарьевны:
«Сидит-сидит, учится-учится, — переучится — и начнет ум за разуменье заходить!» (12).
Захарьевна немного переиначивает известный фразеологизм «ум за разум заходит»: вместо слова «разум», обозначающего высшую умственную деятельность человека, героиня использует слово «разуменье» как способность что-либо понимать вообще. Авторское отношение к происходящему проявляется и в использовании слов и понятий в несвойственном для них значении8. Так, Попов приветствует «геометрическую и гомерическую прогрессию жизни» (12) (выделено нами. — М. З.). Таким образом, геометрической прогрессии жизни электронов, о которой мечтает герой, автор противопоставляет «гомерический смех», слышимый «за кадром».
Однако повествователь проговаривает и те идеи, которые близки самому писателю. В первую очередь, это мысль о трагическом несоответствии длительности природных процессов краткости человеческой жизни, что приводит к непостижимости природного мира: оказывается, электроны живут дольше, чем человек, а процессов в них больше, — именно это «обстоятельство делает природу в глазах человека мертвой» (17, 18). Спасти ситуацию может, по мнению и героя, и автора, наука:
«Наука объективно играет роль морального фактора: трагедию жизни она превращает в лирику, потому что сближает в братстве принципиального единства жизни такие существа, как человек и электрон» (18) (выделено нами. — М. З. ).
Однако вскоре выясняется, что никакого «братства», как и морали, нет: электроны нужны человеку для того, чтобы их «эксплуатировать», поэтому требуется увеличить «интенсивность» их жизни, пусть и за счет уменьшения ее «продолжительности» (18–19). Для этой жестокой цели и необходим эфирный тракт: он станет ускорителем всех жизненных процессов в развитии электронов9. Данный физический процесс был бы вполне закономерным, научно объяснимым и оправданным (мы же не задумываемся, как идет ток по электрическим проводам), если бы не фантастическая составляющая в трактовке электронов как живых существ. Именно фантастика вскрывает безнравственность теории Попова, ведь эксплуатация — это насилие над природой, которое может привести и, в конечном итоге, приводит в повести к катастрофическим последствиям.
Как ни парадоксально, человеческими чертами Попов наделяется, решившись на самоубийство. Не открыв эфирного тракта, герой уходит из жизни, отомстив ей за ее равнодушие. Однако, жестокий к природе и к людям, Попов через смерть обнаруживает в себе «человеческое, слишком человеческое» (Ницше) — не случайно ГПУ сделало следующие выводы о причинах его самоубийства:
«…растрепанные нервы, декадентская душа, метафизическая философия, — все это жило в противоречии с научным гением Попова…» (21).
Попов убивает себя, приняв «розовый яд». Одним из вариантов названия повести было «Медом по яду» — Платонов снова прибегает к антитезе: изобретения ученых могут быть как лекарством (медом), так и ядом для человечества, одно проистекает из другого, связано с ним, но при неправильном использовании лекарство может легко превратиться в смертельный яд. Указание на цвет или на состав в данном случае тоже важно, так как впоследствии будет озвучена еще одна мечта последователя Попова, Михаила Кирпичникова, — добывание «розового масла», дарующего человеческому телу бессмертие. Роза — центральный символ в христианской культуре, символ страданий Христа и его победы над смертью, символ воскресения. Небесный Иерусалим представлялся в образе розового сада [Павлова, 2005: 586]. Смерть Попова от розового яда — это своего рода конец мира в пределах земной человеческой жизни, ведь ученый не верил, несмотря на увлечение «метафизической философией», в возможность именно метафизического воскресения человека; его эсхатологические чаяния заканчивались здесь и сейчас.
Еще одним «полюсом», до которого может «дойти» Кирпичников в своем развитии и который служит предостережением герою, является образ инженера-агронома Матиссена, с его «теорией техники без машин, техники, где универсальным инструментом был сам человек» (28). Открытие Матиссе-на, научившегося с помощью мысли управлять сложными механизмами и природными явлениями, в идеале должно было освободить человека от тяжелого физического труда, «мускульной работы» (33). Действие переносится на десять лет вперед после смерти Попова (идет примерно 1934 г.). Платонов вспомнит об этом в реальном 1934 г., когда будет работать над повестью «Ювенильное море» (1934), главный герой которой, инженер Вермо, тоже верит, что при коммунизме «механизмы вступят в труд и освободят людей для взаимного увлечения»10.
Однако открытие Матиссена приобретает чудовищные формы. Первым это замечает сам Кирпичников, которому лицо ученого кажется «омертвевшим» и которому вдруг становится «стыдно» за его открытие, как «убийце, даже тогда, когда убийство совершено в интересах целого мира»: Кирпичников почувствовал, что Матиссен «явно насиловал природу» (33). В глазах и автора, и героя Матиссен — преступник:
«И преступление было в том, что ни сам Матиссен, ни все человечество еще не представляли из себя драгоценностей дороже природы. Напротив, природа все еще была глубже, больше, мудрее и разноцветней всех человеков» (33).
Именно Матиссен становится причиной гибели Кирпичникова: почувствовав себя безнаказанным, он силой мысли вызывает природные явления, которые приводят к катастрофам и уничтожению сотен людей. Матиссен, как и Попов, также заканчивает жизнь самоубийством: его мозг, уставший от злости и тоски, уничтожил сам себя, предварительно чуть не уничтожив всю вселенную. Описывая преступления Матиссена, Платонов не только задается вопросом об этической составляющей того или иного открытия и об ответственности ученого, но и высказывает опасение, что научные открытия могут попасть не в те руки и будут служить не добру, а злу. Именно к такому выводу приходит Михаил Кирпичников, когда незадолго до гибели едет в Америку.
Казалось бы, причин для такой поездки нет, в родной стране случились реальные перемены: если раньше «шел век социализма и индустриализации, шло страшное напряжение всех материальных сил общества, а благоденствие откладывалось на завтра» (23), то теперь мир изменился. В деревне появились добротные дома из кирпича, черепицы, железа:
«Народ заметно потолстел и подобрел характером. История стала практическим применением диалектического материализма» (30).
Однако воплощенная утопия вдруг начинает граничить с эсхатологией, которая разрушает этот идиллический мир предчувствием скорого конца:
«Дни сияли так мирно и счастливо, как будто они были утром тысячелетнего блаженства человечества» (31); «Русское овражистое поле в шесть часов октябрьского утра — это апокалипсическое явление, кто читал древнюю книгу — Апокалипсис» (45).
Согласимся с Н. П. Хрящевой, что цивилизация, которая пытается «разумно управлять таинственными глубинами бытия — метафизическими по своей сути — неизбежно ввергает себя в эсхатологию» [Хрящева: 52]11.
Платонов мотивирует поездку Кирпичникова в Америку — своеобразную «Мекку» научно-технического прогресса — тем, что герой никак не может открыть эфирный тракт, его приборы «молчали», а сам он «затосковал» (43). Согласимся, что «образ инженера, ставшего странником, означает бессмысленность научных знаний, лишенных любящего сердца» [Йосихара: 203]. Герой оставляет жену и детей и едет не только за эфирным трактом, позволяющим выращивать железо и другие металлы, включая золото, но и за «розовым маслом», дарующим бессмертие (47–49). По дороге Кирпичников встречает еще одного странника — старца Феодосия, который 18 лет провел в поисках праведной земли. Конечная цель у обоих героев одинакова: найти мужицкое счастье на земле, обрести земной рай. Не найдя его на Афоне, Феодосий мечтает дойти до Месопотамии, где, говорят, «есть остатки рая» (46). Но если Кирпичников связывает мужицкое счастье с достатком и бессмертием, которые могут дать эфирный тракт и масло розы из розового сада (47), то Феодосий ищет Божественную истину: «Оставь, Михаил, мне нужна была истина, а не чужеродные харчи» (46). Именно Феодосий одергивает замечтавшегося Кирпичникова и возвращает его на реальную землю:
«Ну, ступай, чудотворец, поглядим-подышим. Много тогда рассады, должно, потребуется! Скорей только ворочайся и в морях не утопни!» (47).
Феодосий не только реалистично смотрит на трудность выращивания такого огромного количества роз, но и предсказывает смерть Кирпичникова, отчего всего его слова, сказанные до этого, приобретают значение правды-истины. Именно такие второстепенные персонажи нередко становятся у Платонова выразителями авторской точки зрения.
В Америке Кирпичников начинает понимать, что научнотехнический прогресс может привести к регрессу человека как умного и душевного существа. Он живет в небольшом американском городке, где все продумано: есть свет, газ и вода. Однако Кирпичников с большим сожалением замечает, что главной для американцев становится «пища» и «наоборот», т. е. процесс пищеварения (51), а сами они «по развитию мозга» напоминают «двенадцатилетних мальчиков» (52):
«Кругом жили глупые люди: работа, еда, сон, ежевечернее развлечение, абсолютная вера в бога и в мировое первенство своего народа!» (52).
Мечта Кирпичникова, как и многих других героев-пассионариев у Платонова, — «дать всем хлеб в рот, счастье в грудь и мудрость в мозг» (23) (в повести 1930–1931 гг. «Хлеб и чтение» писатель будет рассуждать об этом более подробно). Но в Америке герой видит, что техническая беззаботность ведет человека не к мудрости, а к душевной пассивности, низводит его жизнь до физиологического процесса переваривания пищи. Наука губительна, когда служит не истине, а инстинкту потребления или каким-либо другим сугубо утилитарным целям:
«…и жаль было, что великолепные плоды земли превращались, в конечном счете, в темную глупость и бессмысленное наслаждение человека» (52).
Как предостережение звучит и история открытой в тундре цивилизации Аюны12. Переведенные трактаты аюнитов не только свидетельствуют о том, что эфирным трактом интересовались в далеком прошлом и практически открыли его, но и о том, что все те открытия, к которым стремится главный герой, уже сгубили не одну цивилизацию. Утопия уже воплощалась в прошлом. И если сначала история Аюны воспринимается как «легенда», то «в финале она начинает звучать как притча», которая рождается на стыке утопии и реальности [Хрящева: 51–52]. Можно добавить, что фантастическая история Аюны, построенная на идее «вечного возвращения» и зашедшая таким образом в тупик, отражает мифологическое сознание героя и одновременно проявляет авторскую оценку происходящих событий, которая выражается не прямо, а «имплицитно, посредством актуализации мифологической семантики мотивов» [Ярошенко: 126]. Ведь любая история, будь то персональная или мировая, должна развиваться линейно.
Под влиянием христианства на смену представлению о цикличности времени приходят представления об истории, имеющей начало и конец. «Христианская точка зрения на доктрину» о «вечном возвращении» была выражена, по мнению С. Аверинцева, Августином Блаженным, который считал, что человека «по кругу водит бес; устрояемая Богом "священная история" идет по прямой линии. Она идет так потому, что у нее есть цель» [Аверинцев: 93]. Как указывает Н. О. Ласкина, циклическое время характерно для мифа, а линейное время связано с прогрессом (или регрессом), а также с эсхатологией [Ласкина: 123]. В повести «Эфирный тракт» попытки героев вырваться за пределы замкнутого круга своих возможностей не приводят к результату: если Михаил Кирпичников в поисках эфирного тракта попал в тупик, то его сын Егор после смерти отца только на первый взгляд добивается прогресса, — а на самом деле усугубляет пр облему. Например, инженер Попов и Михаил
Кирпичников лишь предполагали, что электроны — живые существа; Егор же живет в то время, когда «область электронов уже твердо определилась как микробиологическая дисциплина» (70), а значит, на электроны теперь распространяются нравственные законы человеческого общества.
Кроме того, Егор отказывается видеть в текстах аюнитов предостережения и предсказания, он считает, что эти тексты просто неправильно переведены. Ему удается добиться того, о чем мечтал его отец: с помощью электромагнитного поля выращивать одни более жизнеспособные электроны за счет других, которые погибают (72). В итоге это привело к безнравственному поведению электронов, которые, как люди, начали конкурировать друг с другом под энергией солнца (73). Егор ошибочно считал, что «благодаря постоянному снабжению земного шара эфиром, текущим из солнца, земля в целом постоянно увеличивается в своих размерах и в удельном весе своего вещества. Это обеспечивает прогресс человечества и подводит физический базис под исторический оптимизм» (74). Горькой иронии автора не заметить здесь, конечно, невозможно. Дошел Егор и до полного уничтожения «сокровенной природы вещества» (73), превратив, таким образом, борьбу с энтропией в аннигиляцию. Скорее всего, именно в результате аннигиляции и по ее законам появился ужасный огромный монстр — наполовину человек, наполовину электрон, выращенный в лабораторных условиях. Однако об ответственности, которую должно нести человечество за это живое теперь и «голодное» (80–81) существо в повести не говорится ни слова — никто об этом даже не задумывается. Зато полному уничтожению подвергаются сами герои. Тот факт, что и отец, и сын утонули в океане и их тел так и не нашли, а также появившийся Дом воспоминаний, где хранятся пустые урны с мемориальными досками, посвященными другим ученым платоновских фантастических произведений (Вогулов, Крейцкопф), свидетельствуют, что никаких иллюзий по поводу достижения возможного научного бессмертия на земле писатель уже не питал.
Образ океана играет в повести важную роль. По указанию Е. М. Мелетинского, «исходные космогонические концепции во всех древних мифологиях соответствуют глобальным представлениям о первичности мирового океана» [Мелетинский: 74].
Таким образом, дополняет Е. М. Неёлов, «возникает первое мифологическое тождество: океан — это мир, Вселенная» [Неёлов: 72]. В повести «Эфирный тракт» именно «вид океана» лишний раз убеждает Михаила Кирпичникова «в необходимости достигнуть богатой жизни и отыскать эфирный тракт» (49). Когда же отец и сын Кирпичниковы начинают работать против «сокровенной» природы, которую, по их мнению, можно и нужно эксплуатировать или уничтожить, Вселенная в образе Океана наказывает героев за утилитарное и высокомерное к себе отношение. Но есть и положительный посыл научного эксперимента в «Эфирном тракте», который заключается, по мнению М. Геллера, в идее единства всего живого и неживого на земле [Геллер М.: 70].
В эссе «Душа человека при социализме» О. Уайльд писал, что «прогресс — это реализация утопий»13, — то, что сегодня кажется утопичным и фантастичным, вполне может быть реализовано в будущем. Конечно, у каждой утопии, как и у любого «донаучного и научного» знания, есть свой «горизонт ожи-дания»14, «включающий в себя предвидение», которое «является важнейшим двигателем науки, способствует расширению нашего знания о мире» [Шелудченко: 105]. Платоновские герои отодвигают этот «горизонт ожидания» слишком далеко и не видят границы между тем, где заканчивается наука и начинается фантастика, где заканчивается фантастика и начинается эсхатология. Но это видит автор, поэтому фантастика и реальность, миф и эсхатология в поэтике платоновской повести обретают новые связи: фантастика разрушает не только утопию, но и миф. Однако на место мифологическому сознанию, способному хоть как-то объяснить те или иные явления, приходят бесплодные эсхатологические чаяния. Конечно, надежды, которые связывал сам молодой Платонов с электрификацией, тоже были не столько технические, сколько метафизические: «…электрический свет и электрический двигатель не только дадут нам вечный день и хлеб, но дадут и новую человеческую товарищескую душу»15. Но в повести «Эфирный тракт» этого, увы, не происходит. Оказывается, несмотря на успехи науки, человек все равно еще слишком мало знает о себе и мире и не достиг того уровня нравственного совершенства, чтобы быть достойным своих открытий.
По мнению В. Н. Захарова, «в трактовке фантастических сюжетов важно не только то, как автор объясняет фантастику, но прежде всего то, что происходит в произведении, как фантастическое выявляет сущность происходящего, выражает тайны бытия» [Захаров, 2016: 20]. В повести «Эфирный тракт» фантастическое, становясь элементом поэтики, оттеняет особенности научного и одновременно мифологического сознания героев, а сталкиваясь с реальностью, — обнажает эсхатологическую направленность произведения Платонова. В основе жанровой структуры повести, таким образом, лежит сложный синтез фантастики и реальности, который подключает в жанровом подтексте мифологические и эсхатологические архетипы и в целом раскрывает авторскую позицию в тексте. Автор, а следом за ним и читатель, приходят к выводу, что тайны мироздания всецело не поддаются науке и изучению. Несмотря на открытия, платоновский герой по-прежнему остается одиноким, несчастным и смертным, а природа — «сокровенной» и непознаваемой.
Т. 322. № 6. С. 104–109 [Электронный ресурс]. URL: http://izvestiya.tpu. ru/archive/article/view/1010 (10.08.2022).
Список литературы Фантастика, миф и эсхатология в повести А. Платонова "Эфирный тракт"
- Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы / отв. ред. М. Л. Гаспаров. М.: Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1977. 320 с.
- Анненский И. О формах фантастического у Гоголя // Анненский И. Книги отражений / изд. подгот. Н. Т. Ашимбаева, И. И. Подольская, А. В. Федоров. М.: Наука, 1979. С. 207–216. (Сер.: Литературные памятники.)
- Блох Э. Принцип надежды // Утопия и утопическое мышление: антология зарубеж. лит. / перев. с разн. яз.; сост. В. А. Чаликова. М.: Прогресс, 1991. С. 49–78.
- Бочаров С. Г. «Вещество существования». Мир Андрея Платонова // Бочаров С. Г. Вещество существования: филологические этюды. М.: Русскiй мiръ: Жизнь и мысль, 2014. С. 341–386.
- Брель С. Эстетика Платонова в контексте представлений об энтропии // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М.: ИМЛИ РАН, 2003. Вып. 5. С. 328–333.
- Бритиков А. Ф. Проблемы изучения научной фантастики // Русская литература. 1980. № 1. С. 193–202.
- Вороная С. А. Образ ученого в повести А. Платонова «Эфирный тракт» // Национальная ассоциация ученых. 2017. № 6 (33). С. 58–60.
- Геллер Л. Вселенная за пределом догмы. Размышления о советской фантастике. London: Overseas Publications Interchange, 1985. 445 с.
- Геллер М. Андрей Платонов в поисках счастья. М.: МИК, 2000. 432 с.
- Долгина Е. С. Проблема дефиниций «утопия» и «научная фантастика» в историческом дискурсе // Мир науки, культуры, образования. 2012. № 6 (37). С. 32–33.
- Заваркина М. В. Фантастический мир Андрея Платонова // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2016. Вып. 4: Поэтика фантастического. С. 198–210 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1482760889.pdf (10.08.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2016.3768
- Захаров В. Н. Система жанров Достоевского: типология и поэтика. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1985. 208 с.
- Захаров В. Н. Условность и фантастика (взаимоотношение категорий) // Жанр и композиция литературного произведения: межвуз. сб. Петрозаводск: ПГУ, 1986. С. 47–54.
- Захаров В. Н. Проблемы исторической поэтики. Этнологические аспекты. М.: Индрик, 2012. 264 с.
- Захаров В. Н. Фантастическое: аксиомы, парадоксы, проблемы // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2016. Вып. 4: Поэтика фантастического. С. 7–26 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1482751637.pdf(10.08.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2016.4021
- Захарова О. В. Из истории изучения фантастики в русской критике и литературоведении 1820–1970-х годов // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2016. Вып. 4: Поэтика фантастического. С. 100–117 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1482755842.pdf (10.08.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2016.3922
- Ильюшик В. Время и пространство в повести Андрея Платонова «Эфирный тракт» // Русская филология. Тарту: Tartu Ulikooli Kirjastus, 2004. № 15. С. 111–114.
- Йосихара М. Об отношении между странником и инженером в повестях «Эфирный тракт» и «Котлован» // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М.: Наследие, 1995. Вып. 2. С. 198–206.
- Кагарлицкий Ю. И. Что такое фантастика? М.: Худож. лит., 1974. 352 с.
- Коваленко В. Трикстеры и демиурги у Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М.: Наследие, 1995. Вып. 2. С. 126–133.
- Ковтун Е. Н. Поэтика необычайного: художественные миры фантастики, волшебной сказки, утопии, притчи и мифа (на материале европейской литературы первой половины XX века). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. 307 с.
- Корниенко Н. В. История текста и биография А. П. Платонова (1926–1946) // Здесь и теперь. 1993. № 1. 320 с.
- Корниенко Н. В. «Болдинская осень» А. Платонова: Тамбов в жизни и творчестве писателя // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2015. № 5 (145). С. 35–44 [Электронный ресурс]. URL: http://journals.tsutmb.ru/go/1810-0201/2015/5/35-44/ (10.08.2022).
- Ласки М. Утопия и революция // Утопия и утопическое мышление: антология зарубеж. лит. / перев. с разн. яз.; сост. В. А. Чаликова. М.: Прогресс, 1991. С. 170–209.
- Ласкина Н. О. Категория времени в повести Андрея Платонова «Эфирный тракт» // Национальный гений и пути русской культуры: Пушкин, Платонов, Набоков в конце XX века. Омск, 1999. Вып. 1. С. 121–129.
- Малыгина Н. М. Художественный мир Андрея Платонова. М.: МПУ, 1995. 96 с.
- Малыгина Н. М. Андрей Платонов: поэтика «возвращения». М.: Теис, 2005. 334 с.
- Мамонтова Е. М. Фантастика в художественной прозе Андрея Платонова 20-х — 40-х годов ХХ века: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. М., 1997. 214 с.
- Мануйлов Е. В. Реконструирование мира как авторская позиция в произведениях Платонова // Национальный гений и пути русской культуры: Пушкин, Платонов, Набоков в конце XX века. Омск, 1999. Вып. 1. С. 114–121.
- Матвеева И. Источники сюжета повести А. Платонова «Эфирный тракт» // Текстологический временник: русская литература ХХ века: вопросы текcтологии и источниковедения. М., 2009. C. 336–344.
- Матвеева И. И. Комментарии // Платонов А. Эфирный тракт: повести 1920-х — начала 1930-х годов. М.: Время, 2011. С. 515–525.
- Медведев П. Н. Собр. соч.: в 2 т. / изд. подгот. Ю. П. Медведев и Д. А. Медведева; отв. ред. Б. Ф. Егоров. М.: Росток, 2018. Т. 2: Поэтика и психология творчества. 928 с.
- Меерсон О. Неостранение фантастического // Меерсон О. Апокалипсис в быту. Поэтика неостранения у Андрея Платонова. М.: Гранат, 2016. С. 88–128.
- Мелетинский Е. М. Мифы древнего мира в сравнительном освещении // Типология и взаимодействие литератур Древнего мира. М.: Наука, 1971. С. 68–133.
- Московская Д. С. Комментарии // Платонов А. Сочинения. Т. 2: 1926–1927. Повести, рассказы, сценарии, статьи. М.: ИМЛИ РАН, 2016. С. 472–506. (а)
- Московская Д. Реальные источники повести А. П. Платонова «Эфирный тракт» // Русская словесность. 2016. № 3. С. 58–62. (b)
- Неёлов Е. М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1986. 200 с.
- Павлова О. А. Научно-фантастическая повесть А. П. Платонова «Эфирный тракт»: формирование антиутопического дискурса // Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов: мат-лы Междунар. науч. конф., г. Волгоград, 24–27 апреля 2005 г. Волгоград, 2005. С. 584–589.
- Павлова О. А. Синтез мифа и научной фантастики в «Рассказе о многих интересных вещах» А. Платонова // Изменяющаяся Россия — изменяющаяся литература: художественный опыт XX — начала XXI веков: сб. науч. тр. Саратов: Наука, 2008. Вып. 2. С. 160–164.
- Павлова О. А. Синтез метажанров научной фантастики, жития и героического эпоса в структуре утопических рассказов А. Платонова первой половины 1920-х годов // Вестник Волгоградского государственного унивесритета. Серия 8: Литературоведение. Журналистика. 2012. Вып. 11. С. 25–35 [Электронный ресурс]. URL: https://readera.org/sintez-metazhanrov-nauchnoj-fantastiki-zhitija-i-geroicheskogo-jeposa-v-14975239 (10.08.2022).
- Проскурина Е. Н. Фаустиана Андрея Платонова (на материале прозы 1920–1930-х годов). М.: Новый хронограф, 2015. 352 с.
- Ревич В. А. Перекресток утопий: судьбы фантастики на фоне судеб страны. М.: ИВ РАН, 1998. 351 с.
- Степанова К. П. Фантастика А. Платонова: к проблеме соотношения жанра и метода // Проблема взаимодействия метода, стиля и жанра в литературе: тезисы докладов. Свердловск, 1989. Ч. 2. С. 55–58.
- Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. 144 с.
- Толстая-Сегал Е. Идеологические контексты Платонова // Андрей Платонов: мир творчества. М.: Современный писатель, 1994. С. 47–83.
- Фурукава А. От «Эфирного тракта» к «Джану»: трансформация темы взаимоотношений человека и природы в произведениях Платонова 1920–1930-х гг. // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М.: ИМЛИ РАН, 2017. Вып. 8. С. 204–209.
- Хейдари М. Картины научных изысканий в повести А. П. Платонова «Эфирный тракт»: динамика утопических и эсхатологических мотивов // Молодой ученый. 2016. № 10 (114). Ч. 15. С. 1507–1509 [Электронный ресурс]. URL: https://moluch.ru/archive/114/29658/ (10.08.2022).
- Хейдари М. Тип инженера-преобразователя в двух научно-фантастических произведениях 20-х гг. XX в.: «Эфирный тракт» и «Гиперболоид инженера Гарина» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2019. Т. 12. № 12. С. 39–43 [Электронный ресурс]. URL: https://www.gramota.net/materials/2/2019/12/7.html (10.08.2022).
- Хрящева Н. П. О жанровой природе повести А. Платонова «Эфирный тракт» // Русская литература XX века: направления и течения. Екатеринбург: УрГПУ, 2000. Вып. 5. С. 34–52.
- Шелудченко Д. А. Утопия и эсхатология: два типа философского предвидения // Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 322. № 6. С. 104–109 [Электронный ресурс]. URL: http://izvestiya.tpu.ru/archive/article/view/1010 (10.08.2022).
- Шестаков В. П. Утопия и эсхатология (очерки русской философии и культуры). М.: Владос, 1995. 208 с.
- Яблоков Е. А. О типологии персонажей А. Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М.: ИМЛИ РАН, 1994. С. 194–203.
- Ярошенко Л. Я. Бинарные оппозиции в прозе А. Платонова (на материале повести «Эфирный тракт») // Осуществленная возможность: Андрей Платонов и ХХ век. Воронеж, 2001. С. 122–126.