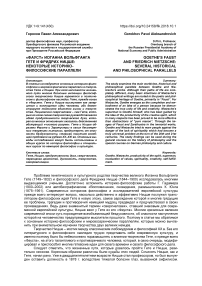"Фауст" Иоганна Вольфганга Гете и Фридрих Ницше: некоторые историко-философские параллели
Автор: Горохов Павел Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 10, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются основные историко-философские и мировоззренческие параллели в творчестве Гете и Ницше. При всей несхожести жизненного пути многие базисные интенции философского творчества Ницше коренятся в поэтическом и философском наследии Гете, прежде всего в «Фаусте». Гете у Ницше выступает как завершение и воплощение идеи человека, ибо демонстрирует подлинное единство жизни и творчества. Ницшевский сверхчеловек - сам Гете, который во всем своем творчестве руководствовался идеей продуктивности творческого духа, которая во многих отношениях оказалась действенней абстракций «чистого разума». Гете и Ницше образами Фауста и Заратустры в своих бессмертных творениях пытались предостеречь от опасности бездуховности, ставшей поистине всеобщей проблемой на рубеже ХХ-XXI вв. Основные выводы исследования могут быть использованы в общих курсах по истории философии и специальных курсах по немецкой философии и культуре.
Гете, ницше, продуктивность духа, сверхчеловек, переоценка ценностей, духовность, творчество, самореализация
Короткий адрес: https://sciup.org/149133670
IDR: 149133670 | УДК: 1+9:141(430) | DOI: 10.24158/fik.2018.10.1
Текст научной статьи "Фауст" Иоганна Вольфганга Гете и Фридрих Ницше: некоторые историко-философские параллели
Проблема генетического и культурного родства творчества великого Иоганна Вольфганга Гете (1749–1832) и философского дела Фридриха Ницше (1844–1900) исследовалась многими выдающимися учеными. Достаточно вспомнить историко-философские работы Г. Гадамера (1900–2002) или автобиографические «Воспоминания, сновидения, размышления» К. Юнга (1875–1961). Современных историков философии и исследователей европейской культуры прежде всего интересует вопрос, насколько действенно и эффективно Ницше послужил транслятором философских идей Гете в новую эпоху, самое зарождение которой и многие грядущие ее проблемы, трагедии и противоречия немецкий мудрец предвидел и предчувствовал в своих произведениях. Ведь даже знаменитый термин «сверхчеловек», ставший знаковым для современной европейской культуры, Ницше взял у Гете из его «Фауста». Многие кризисные явления современной эпохи суть порождение всеобъемлющей бездуховности, об опасности наступления которой на человечество предупреждали мыслители прошлого. Поэтому в статье мы обратимся к основным историко-философским и мировоззренческим параллелям, которые можно вычленить при внимательном изучении творчества двух великих немцев.
Творчество Ницше – мостик между классическим любомудрием и философией ХХ в. Без его литературного и философского наследия трудно представить себе современную культуру, и именно поэтому было бы небесполезно поразмышлять о влиянии творчества Гете, и прежде всего «Фауста», на этого талантливого и противоречивого человека, который, в свою очередь, модифицировал и приспособил многие гетевские идеи для своего времени и своего философского дела.
Следует отметить, что жизненные пути, которые довелось пройти Гете и Ницше, разительно несхожи. Коренным образом различны были судьбы этих людей. Сочинять Ницше, как и Гете, начал рано. Уже в двадцатипятилетнем возрасте Ницше стал профессором, но был вынужден оставить должность в 1878 г. вследствие тяжелой болезни глаз, вызванной сифилисом.
Он следовал своему лозунгу «Живи опасно», поэтому сделался полной развалиной, будучи еще совсем молодым человеком.
Физические и душевные муки, терзавшие Ницше, были ужасны. На протяжении своей недолгой жизни он так и не смог научиться у своего кумира Гете замечательной способности саморегу-лировать физическое и душевное состояние. В тридцать с небольшим Ницше пришлось прервать свою академическую карьеру и покинуть кафедру филологии. А ведь Гете в этом возрасте получил лишь чин действительного статского советника, и впереди было еще столько великого! В возрасте 44 лет, когда Гете полон сил и энергии, Ницше разбивает паралич. Вскоре он теряет рассудок.
Несхожи были стиль жизни, манера поведения, сама духовная эволюция мыслителей. Величественная и солидная внешность Гете-чиновника, министра, признанного поэтического гения и любимца женщин нисколько не походила на тот облик тщедушного и не очень уверенного в себе человека, который остался запечатленным на портретах Ницше. Но еще в молодые годы Ницше занимали те темы и проблемы, которые волновали и Гете в пору его юности. Для Ницше вся глубокая тематика взаимоотношений Фауста и Елены из второй части «Фауста» служит как бы моделью для рефлексии над проблемами «жажды к жизни» и «воли к бытию», которыми наполнена философия Артура Шопенгауэра (1788–1860). Воля к жизни, о которой писал Шопенгауэр, трансформировалась у Ницше в понятие «воля к власти». От этой философии Ницше то отрекался, то срисовывал во многом именно с нее будущие контуры своей виталистичной имморальности, которая получила второе рождение в ХХ в., модифицируясь в философии постмодернизма.
Сам Ницше – при всей рискованности таких сравнений – напоминал гетевского Фауста своей безграничной жаждой познания и мощным интеллектом, стремящимся понять как микрокосмос, так и макрокосмос. В ранние годы жизни Ницше был религиозен, а потом потерял веру настолько, что стал грязными словами ругать Бога и христианство. Этим он напоминает многих русских искателей истины и теоретиков «общего дела» XIX столетия, особенно Н.Г. Чернышевского. «Антихрист» Ницше – поистине страшная книга, а лозунг «Падающего толкни» ужасает нас, живущих в начале ХХI столетия, для которых ХХ век стал страшной и жестокой историей, на протяжении которой этот лозунг реализовывался перманентно.
И Фауст у Гете в начале трагедии полностью утратил веру. Он искренне верит в то, что истина, которой он так жаждет, вряд ли может быть найдена в религии. Он полагает, что истина сокрыта в самой Природе, в тех самых Wirkenskraft und Samen («действующей силе и семенах»).
Скорбь и тоску литературного Фауста и реального Ницше можно назвать мировой скорбью (Weltschmerz) как бы в противоположность частному, личному горю человека. Фауст страдает за человечество в целом, за все несовершенство своих современников. Сама природа человека, ее ограниченность, ее конечность – вот главные мотивы его метафизических страданий. Не личное несчастье – корень пессимизма Фауста; это не только результат его практических неудач или ударов судьбы, не исключительно следствие житейских невзгод и промахов (хотя это все также имеет место). Та мировая скорбь, которой охвачен Фауст, является результатом глубокой внутренней борьбы, колоссального разлада во всем миросозерцании. Такой разлад был свойственен и Ницше. Именно этот разлад вкупе с неизлечимой болезнью и привел его в сумасшедший дом.
Исследователи наследия Ницше часто забывают о том, что Ницше одновременно был как философом, так и поэтом. И здесь напрашивается еще одна параллель между ним и Гете. Как и Гете, Ницше не стремился к созданию философской системы, претендующей на объяснение всех мировых тайн. Жизнь несказанно богаче наших представлений о ней, поэтому даже самая совершенная система не отразит всего богатства природы и всех загадок человеческой души. Не сухая система, но мудрое слово воздействует на людей во сто крат сильнее, если это слово еще и красиво. Поэтому Ницше всю жизнь чувствовал свою близость к Гете именно в базисных интенциях культуры.
Всех людей Ницше разделял на большинство, которое немногим отличается от тупого стада, ибо оно озабочено лишь удовлетворением чисто физиологических потребностей, и небольшое количество сверхлюдей, которые являются истинным будущим человечества. Такое разделение Гете просто не могло прийти в голову. Дать окончательную дефиницию личности, по Ницше, нельзя, ибо любое определение загоняет живую реальность в бездушные границы. С этим Гете, наверное, согласился бы. Также нельзя и обозначить четкими вехами тернистую дорогу к состоянию сверхчеловека, ибо каждый такой путь сугубо индивидуален.
Лишь по мере сил противодействуя назойливому влиянию стада, можно выйти на духовную дорогу, ведущую к сверхчеловеку, и реализовать, таким образом, потенции нового индивидуального бытия. Труды Ницше своеобразно трактовались немецким национал-социализмом, идеологи которого выискивали в наследии мыслителя исключительно тоталитарные и антигуманистические мотивы. Это произошло в основном вследствие нездоровой активности сестры философа – Элизабет Ферстер-Ницше, подружившейся с нацистскими бонзами.
Сам Ницше критически относился к немцам и ни в коей мере не рассматривал этот народ, равно как и какой-либо другой, как генетический питомник для «белокурых бестий» – грядущего человечества. «Белокурые бестии» понимались им как метафорический образ, светлый и грядущий человеческий идеал, который лишь когда-нибудь воплотится в будущем.
Сам Ницше настолько не любил своих соотечественников, что даже придумал себе родословную от польских дворян Ницких. Философ считал немцев колбасниками и жуткими филистерами, поэтому всячески критиковал их. Порой он высказывался с очень резкими оценками немецкого национального характера, немецкой культуры и Германии в целом.
Во времена Гете Германия была еще раздроблена, а Ницше довелось стать современником объединения Германии, но, думается, он позаимствовал критическое отношение к немцам у своего кумира. Гете любил свою Родину, но никогда не возвеличивал немецкий национальный характер, видя в нем много отрицательных черт. Скажем, однажды он отпустил по поводу немцев следующую шпильку:
Нацией стать – понапрасну надеетесь, глупые немцы,
Начали вы не с того – станьте сначала людьми [1, с. 241].
Все это не могло не найти отражения и в «Фаусте».
При изучении философского наследия Гете поражает универсальность продуктивного духа поэта и мыслителя. Фактически все его творения, как в науке, так и в искусстве, суть постоянное трансцендирование за пределы «немецкости». Таковым он сделал и своего Фауста – подлинным космополитом-интеллектуалом, человеком Нового времени, в отличие от реального средневекового чернокнижника. Широта и неординарность мировоззрения Гете позволяют говорить о том, что по своему менталитету он мало похож на среднестатистического немца, в характере которого наличествует определенная приземленность и ограниченность. Этим особенностям духовного склада Гете, видимо, стремился подражать и Ницше.
Творчество Ницше является образцом метафорически и эстетически ориентированного любомудрия. В этом он вольно или невольно подражал Гете. Магистральными направлениями раздумий этого неординарного и разностороннего мыслителя, на наш взгляд, являются следующие: 1) полный поэтики и лиризма поиск единства между стихией плотских стремлений, присущих Дионису, и миром утонченной мудрости Аполлона («Рождение трагедии из духа музыки»); 2) безжалостное отбрасывание христианской морали («По ту сторону добра и зла», «Человеческое, слишком человеческое»); 3) «переоценка ценностей», призванная привести на место готовых и набивших оскомину старых ценностей новую творческую мораль; 4) метафорическая концепция сверхчеловека («Сумерки богов», «Так говорил Заратустра», «Генеалогия морали»); 5) идея «вечного возвращения» событий индивидуального человеческого бытия, элементы которой можно найти во многих творениях этого философствующего поэта.
В европейскую культуру Ницше вновь привнес единение любомудрия и лирики, некогда столь характерное для Античности. Он придал новое качество мифологическому и поэтическому созерцанию действительности. Как и Гете, Ницше попытался исследовать тайники человеческой души и загадки бытия не рационально, а с помощью художественных средств. Как известно, Гете любил говорить, что не все сущее делится на разум без остатка. Ведь и Гете – как в «Фаусте», так и во всем своем поэтическом творчестве – в полной мере использовал символы, метафоры, всю великую греческую мифологию. В этом Ницше ощущал себя духовным последователем Гете.
На наш взгляд, богоборец Ницше всю жизнь поклонялся двум божествам: античной Греции и «олимпийцу» Гете, ибо постоянно пробуждал и оживлял их в себе и сравнивал себя с ними. «Фауст» Гете был для Ницше символом непрекращающихся метаморфоз и в то же время глубокой целостности. Гете никогда не отгораживался от жизни, он соединял жизненную энергию, поэтический дар и интеллект. Гете был полон стихией Диониса. Так считал Ницше и не во многом ошибался.
Ницше полагал, что Гете выражал сильнейшие жизненные инстинкты и грандиозную чувственную полифонию. Гете был великим певцом духовного и телесного бытия. Именно это так и не удалось осуществить в полной мере самому Ницше. Но, пожалуй, ни о ком Ницше не отзывался так восторженно, как о Гете. Вчитаемся хотя бы в эти строки: «Сильнейшие инстинкты столетия были ему свойственны: яркое чувственное восприятие, придание природе статуса божества, антиисторичность, стремление к чему-то идеальному, ирреальному, революционному (ведь последнее является только разновидностью нереального). Он взял в свои союзники не только науку историю, естествознание, мир антики, но и Спинозу, и прежде всего практическую деятельность человека. В глубокой страсти к нереальному в своем историческом времени Гете продолжал быть уверенным реалистом – он подтверждал все в эпохе, что было схоже с ним генетически: его самым сильным впечатлением осталось ens realissimum, носящее имя Наполеон» [2, S. 76].
О глубочайших и богатейших пластах человеческой культуры, следы которых можно найти в творчестве Гете, размышляет и Владимир Кантор: «В сочинениях Гете мы увидим и “Книгу Иова”, и “Гамлета”, и “Фауста” Кристофера Марло (не говоря о лубочных книгах о Фаусте и книге его современника Фридриха Клингера…)» [3, с. 7–8].
Гете в «Фаусте» во многом предвосхитил философские интенции Ницше идеей самоценности и самодостаточности жизни как таковой. Неудачник Ницше, страдающий физически и духовно, провозглашал тем не менее ценность жизни, оставаясь верным идеям Гете и Шопенгауэра. Все, что выразил в своем творчестве Ницше, вытекает из жизненной культуры и этики «благоговения перед жизнью» (как это впоследствии выразит А. Швейцер), почерпнутой от самих истоков бытия. Недаром Хосе Ортега-и-Гассет, который, к слову, хотел написать книгу «Гете для человека, идущего ко дну», пишет: «Открытие имманентных жизни ценностей, совершенное Гете и Ницше (несмотря на чрезмерно зоологический язык последнего), было гениальным предвидением будущего, событием огромного значения – открытием этих ценностей, мироощущением целой эпохи. Провиденная, возвещенная гениальными авгурами эпоха наступила – это наша эпоха» [4, с. 467].
Наследниками Гете и Ницше могут в определенной мере считаться Артур Шопенгауэр, Освальд Шпенглер, Вильям Дильтей и Георг Зиммель, оказавшие значительное влияние на современную немецкую и европейскую философию своей «философией жизни». Дильтей полагал, что Ницше, раз уж он взывает к индивиду, оторванному от коллективного творчества, так и не сумел обосновать свою моральную проповедь и переоценку аксиологической шкалы. Георг Зиммель не только творчески продолжил и развил основные идеи «философии жизни», во многом основанные на взглядах Гете и Ницше, но и выступил биографом последних, а также Канта и Шопенгауэра.
Итак, наследие Гете и Ницше не только схоже в своих базисных духовных интенциях, но и оказало во многом однопорядковое влияние на философию и культуру Новейшего времени. У Гете внешнее влияние не противостоит глубинному призванию и не извращает его, ибо всякое событие для него становится судьбой. Все элементы его жизни, все составляющие его сознания выражают оригинальность этого человека. Все для него становится средством самореализации. У Гете само творчество не наносит никакого ущерба жизни, ибо мыслитель и поэт не жертвует ни своим размахом, ни разнообразием знаний во имя необходимости творить. Гете не обедняется тем, что он отдает себя читателям, так как каждая написанная им книга – момент внутреннего развития. Поэтому Гете – завершение и воплощение идеи человека-творца. Он демонстрирует подлинное единство жизни и творчества. По сути, ницшевский сверхчеловек это и есть сам Гете, который во всем своем творчестве руководствовался идеей продуктивности творческого духа, которая во многих отношениях оказалась действенней абстракций «чистого разума».
Не совсем так было у Ницше, страдавшего, как гетевский Фауст, от невозможности примирить в своем творчестве терзавшие его противоречия. Но как Гете, так и Ницше в своих бессмертных творениях увидели многие угрозы, надвигающиеся на человечество из будущего, и пытались образами Фауста и Заратустры предостеречь от опасности бездуховности, ставшей поистине всеобщей проблемой на рубеже ХХ–XXI вв.
Ссылки:
-
1. Гете И.В. Собрание сочинений : в 10 т. Т. 1. М., 1975. 528 с.
-
2. Nietzsche F. Gesammelte Werke. Bd. 6. Leipzig ; Weimar, 2005.
-
3. Кантор В.К. Изображая, понимать, или Sententia sensa: философия в литературном тексте. М. ; СПб., 2017. 832 с.
-
4. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры: избранные труды. М., 1991. 588 с.
Список литературы "Фауст" Иоганна Вольфганга Гете и Фридрих Ницше: некоторые историко-философские параллели
- Гете И.В. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 1. М., 1975. 528 с.
- Nietzsche F. Gesammelte Werke. Bd. 6. Leipzig; Weimar, 2005.
- Кантор В.К. Изображая, понимать, или Sententia sensa: философия в литературном тексте. М.; СПб., 2017. 832 с.
- Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры: избранные труды. М., 1991. 588 с.