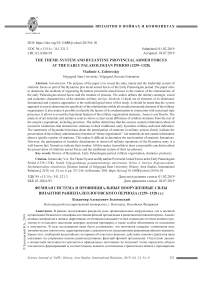Фемная система и провинциальные вооруженные силы византии раннепалеологовского периода (1259-1328 гг.)
Автор: Золотовский Владимир Алексеевич
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Византия в войнах и конфликтах
Статья в выпуске: 6 т.24, 2019 года.
Бесплатный доступ
В рамках исследования раскрыты роль провинциальных вооруженных сил в военной организации Византии и специфика состояния фемной организации в раннепалеологовский период. Анализ актовых материалов и данных нарративных источников показывает четкое социальное отличие воинов-стратиотов от остального населения империи, включая прониаров, а также особое обозначение их положения в документах. В ходе исследования нами было установлено, что источники содержат упоминания всех экономических институтов, характеризующих стратиотов в их традиционном ранневизантийском значении. Кроме того, сообщения византийских историков об участии в военных действиях воинов-стратиотов явно указывают на сохранение военно-административных функций фемной организации. Отсутствие данных о конкретной численности стратиотов в официальных источниках не позволяет точно определить общую численность формирований и, соответственно, выявить соотношение стратиотского войска с прониарскими наемным, а также установить его роль в военной организации Византии. Вместе с тем участие стратиотских отрядов практически во всех военных операциях византийской армии, а также частные упоминания об их многочисленности в нарративных источниках позволяют со всей обоснованностью сделать вывод о сохранении стратиотского войска и традиционной системы комплектования. Действовавшие стратиотские формирования обеспечивали функционирование фортификационной системы и сдерживали наступление противника до прибытия императорского войска.
История византии, раннепалеологовский период, военная организация, стратиоты, прониары
Короткий адрес: https://sciup.org/149130724
IDR: 149130724 | УДК: 94 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2019.6.18
Текст научной статьи Фемная система и провинциальные вооруженные силы византии раннепалеологовского периода (1259-1328 гг.)
DOI:
Цитирование. Золотовский В. А. Фемная система и провинциальные вооруженные силы Византии раннепалеологовского периода (1259–1328 гг.) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2019. – Т. 24, № 6. – С. 231–244. – DOI:
Введение. Военная история Византии привлекала внимание исследователей на протяжении столетий. Однако вопрос о специфике военной организации, проблема принципов формирования и боевых функций отдельных частей вооруженных сил империи позднего периода стали предметом специальных исследований лишь в последние десятилетия. При этом можно говорить о закреплении в византиноведении ряда общепринятых представлений. В частности, утверждается, что сухопутные войска, разделенные на та тау^ата и та Оё^ата [30, р. 243-245, 249-251; 14, p. 183–184; 1, c. 59], находились под командованием великого доместика [30, p. 237–238, 242; 28, p. 353, 367, 368] и его заместителя протостратора [30, p. 240–241]. Вместе с тем отдельные вопросы так и не получили должного внимания в научной литературе. Наиболее дискуссионно в историографии представлена проблема структуры провинциального войска никейского и палеологовского периодов.
Цель статьи – охарактеризовать состояние, природу и механизм управления стратиотскими формированиями в составе провинциальных вооруженных сил Византии раннепалеологовского периода. С учетом специфики источниковой базы, фактически лишенной полемологической составляющей, достижение цели представляется возможным, прежде всего, посредством выделения квалифицирующих характеристик «классических» стратиотских формирований в поздневизантийской военной организации. В связи с этим последовательно будут раскрыты следующие вопросы: служба и статус стратиотов, состав и численность провинциального войска, структуры фемного войска.
Методы. Методологической основой работы является критическое использование элементов системного, цивилизационного и формационного подходов. Применение системного подхода в совокупности исследовательского инструментария, используемого при анализе военной организации, позволяет определить специфику взаимосвязи всех ее сущностных структурных совокупностей, выявить факторы и направление ее модернизации в связи с социальными и государственными процессами, раскрыть функциональные особенности элементов военной организации. Кроме того, именно системный анализ позволяет выбрать наиболее объективный подход к изучению проблемы развития и функционирования военной организации, а также роли каждого из системообразующих военных институтов.
Отдельные направления тематического исследования военного дела и вооруженных сил могут быть продуктивны при использовании базовых методологических установок структурализма. Они позволят углубить проблематику изыскания посредством анализа стратегем, военно-научных концепций и институтов военной организации в срезе специфики раннепалеологовского времени.
Анализ. В современном византиноведении по вопросу стратиотской службы отдано предпочтение концепции, согласно которой стратиотские формирования были заменены на прониарские силы. П. Каранис одним из первых ассоциировал прониарскую службу с поздним этапом эволюции стратиотской [17, p. 131].
Эта идея, в разрезе теории феодализации поздней Византии Г. Острогорского, была воспринята и переработана Л. Максимовичем.
Стремясь институционализировать систему управления палеологовской империи, исследователь пришел к выводу о ее децентрализации, нашедшей выражение в том числе в ликвидации фемной системы [6, c. 109].
Фактор феодализации в эволюции военной организации, выраженный в переходе от стратиотских (крестьянских) к прониарским (феодальным) ополчениям, был развит в последующей литературе. При этом, по мнению некоторых исследователей, армия была переведена на прониарскую феодальную основу [9, c. 119], а категории стратиотов и акритов – упразднены [9, c. 117–118; 8, c. 104–105]. Другие же акцентировали внимание на развитии в империи больших коллективных и малых проний, представлявших последнюю эволюционную форму стратиотской службы [28, p. 367, 368].
Наиболее системно эта концепция была изложена в ряде работ М. Бартусиса. В своих изысканиях американский ученый прошел долгий путь. Его начало связано с базовыми выводами о тождественности стратиотов и прониаров, обоснованными гипотезой об идентичности пронии и икономии [13, p. 347]. Работая с простагмой Михаила Палеолога, ученый пришел к выводу о том, что солдатам, проявившим в боях доблесть, по решению Михаила VIII и Андроника II разрешалось пожалование пронии с посотис от 24 до 36 пер-перов [12, S. 270–271].
Как и Л. Максимович, М. Бартусис признавал за фемами палеологовской империи лишь фискальные и гражданско-административные функции. При этом военные функции фем, связанные с комплектованием и обеспечением армии, американский ученый отнес к военному квазифемному образованию – великой аллагии [14, p. 194–195, 202]. Продолжая идею Л. Максимовича, историк предложил концепцию военно-иерархической структуры управления великой аллагией: 1) кефалий управлял гражданским населением крепости в военных целях; 2) кастрофилакс контролировал работу по обеспечению военных интересов города; 3) командование прониарским войском великой аллагии осуществлял чауш [14, p. 197]. Обобщая результаты исследования, М. Барту-сис склонился к пониманию великой аллагии как единственной институционально органи- зационной форме поздневизантийской армии [14, p. 204].
В последующих работах исследователь лишь усиливал собственные выводы: источники позднего периода сообщают о категориях военнослужащих исключительно в значении прониаров [15, p. 2–11]; упоминаемая в источниках стратия являлась рядовой повинностью крестьян [15, p. 5, 6]; статус стратиотов был тождественен прониарскому [16, p. 164–169, 182–184, 186]; стратиотские списки палеоло-говского периода являлись списками прониа-ров [16, p. 238–239].
В заключение историографического обзора отметим, что изложенная выше концепция получила широкую поддержку в современной литературе. Так, И. Караянопулос, основываясь на известных данных и положениях работ Н. Икономидиса и М. Бартусиса, повторил предположение о замене стратиотской службы прониарской. Кроме того, исследователь поддержал мнение об объеме посотис пронии и икономии [33, σ. 21–23], а также о роли и характеристике великой аллагии [33, σ. 28–32]. В обобщающей работе С. Кириакидиса также воспроизводится эта идея как основная [24, p. 216]. Учитывая наработки Н. Икономидеса, Э. Арвейлер и М. Бартусиса, автор так же и в этом же направлении раскрыл содержание и значение великой аллагии [24, p. 82–93].
Характеристика службы и статус стратиотов
Данные используемых нами актовых и нарративных материалов XIII–XIV вв. позволяют предположить, что воины-страти-оты (отраткытаь) раннепалеологовского периода «той? cholkou? отрат!ыта? те ка! о’ькобеонОта? тар хыр1ыр Мартаьа?...» [26, р. 128]; «анО тми о!ко8еонотйр...» [26, p. 83]; «ура^а тошкыр арОрынор» [26, p. 93], «отрат!ытои той ’А^аХартои Кыротарт!рои... ка! анО тыр тожкыр Мартаьа? Гешруьои той Какара» [26, p. 94], «Варйхб!ра отратьштлр» [26, p. 153], как и прежде [31, p. 286 19], отличались от остального сельского населения империи (о’ькобёонотаь, НарО!КО!, тОН!КО! арОрОНО!).
Одним из фундаментальных признаков особого статуса воинов-стратиотов являлось юридическое положение земель, находив- шихся в их владении. Согласно известной по законодательству средневизантийской эпохи юридической практике земли передавались на праве possessio под обеспечение выполнения воинской обязанности. Таким образом, факт передачи земли в воинское владение символизировал переход получателя в статус стратиота.
Специальный правовой статус воинских земель отражался в их особом наименовании: воинские владения (атратсытска ктр^ата, атратсытска'с ктраёс?, та тоО атратсытоО ак'сирта); земли, выданные за воинскую службу (ос тр? атратё'са? тОиоь); владения или управления за исполнение воинской службы («та ё£ ыи ас атратёёас ОттрртоОтас ктрр.ата; ос тотос тр? атратё'са? ртос а! Отёр тоО атратёОёси о’скоио^сас») [23, p. 241, 265, 263, 291], «три тр? атратё'са?... ури» [23, p. 291, 266]). Вполне очевидно, что произошедшие в поздний период изменения в социально-экономических отношениях привели к замене традиционных терминов на более характерные для обозначения функции управления – икономия (о’скоио^'са [29, vol. I, p. 293 4, vol. III, p. 175 27, 2 8 5 25-26]) и прония (троиоса [22, vol. 2, p. 58 21, 6315; 29, vol. I, p. 31 16, 51 12, 81 11, 131 19; 29, vol. I, p. 557 26; 29, vol. IV, p. 425 15–16; 32, p. 286 21]).
Система обеспечения воинов-стратио-тов, основанная на наделении их земельными участками, закрепилась в публичной практике еще в период расцвета фемной организации. При этом с целью сохранения боеспособности был установлен минимальный размер владения для конных воинов и воинов имперского флота 1. Опираясь на данные сборника Арменопула, можно предположить, что форма обеспечения воинов-стратиотов земельными владениями сохранилась и в палеологовский период: «...аоитррёсаОас 8ё е’са ёкаотри атрате'саи сттёыи ^ёи ак'сиртои ктраси тёооарыи Хстрыи Оттар^си аттсО^ёТаОас кёХёОо^ёи... лХы'с^ыи 8ё Хстрыи 8Оо» [18, § 7, p. 180 1–3].
Следует пояснить, что размер стоимости земель определялся объемом дохода от их обработки. Именно в связи с этим в источниках стратиотская служба связывается с получением дохода от самостоятельной обработки или от взимания части дохода: «ὅσοι ἐκ χωρίων τὰς προσόδους εἶχον» [22, vol. 2, p. 175 5–6]; «παρέσχον καὶ γῆς ἑκάστῳ πλέθρα χρυσίων δέκα» [22, vol. 1, p. 164 23]. Таким образом, «получение годового дохода от земли» определенно подчеркивает связь специального социально-экономического статуса стратиотов с земледелием. Кроме того, такие формулировки конкретизируют отличие статуса воина-земледельца от наемника, получавшего жалованье (τῆς μισθοφορᾶς): «…τὸ στρατιωτικὸν ἅπαν ὅσον ἦν ἐκ χωρίων ἀποτεταγμένον τὰς προσόδους» [22, vol. 1, p. 169 17–18], «…καὶ τοὺς στρατιώτας τοὺς μὲν ἐπιδόσει τῆς μισθοφορᾶς, τῶν ἐτησίων δὲ προσόδων τοὺς λοιποὺς μᾶλλον ἐπέῤῥωσε» [22, vol. 1, p. 287 20–22]. Показательны также два сообщения Георгия Пахимера о стратиотской службе: организация великим архонтом стратигом Марулисом на востоке империи службы стратиотов, «лишенных лошадей и своих домов, ставших как простые крестьяне» [29, vol. IV, p. 459 16–19]; сбор налогов по решению (р роиХр), предназначенных для организации великим примикирием Касси-аном выплат стратиотским отрядам Вифинии [29, vol. IV, p. 681 4–7].
Как в средневизантийский период, воинские земли раздавались от имени императора отдельным лицам или группам населения. Однако в силу большой численности страти-отских формирований групповые пожалования встречаются чаще. Один из наиболее ярких примеров относится к периоду Никейской империи, в который на основе классических воинских групп в новых условиях экономического и правового развития стали формироваться новые, заложившие основы раннепалеологов-ских. Речь идет о решении Иоанна III Ватаца касательно введения десяти тысяч куманов в имперские вооруженные силы с соответствующим обеспечением земельными владениями. Очевидно, что первое поколение половцев ассоциировалось современниками с наемниками. Однако условия землячества способствовали интеграции куманов в византийскую социально-экономическую систему. В результате последующие поколения осевших иноземцев воспринимались ромеями исключительно в статусе воинов-стратиотов: « καὶ οὐ μικρόν τινα χρόνον ἀνὰ τὴν Θρᾴκην πλανώμενοι περιῄεσαν, ἀποικίαν ζητοῦντες ἁρμόττουσαν ἑαυτοῖς, χιλιάδες οὐ μείους
τῶν δέκα. ἀλλὰ πρὶν αὐτοὺς καταλῦσαι τὴν πλάνην, ὁ βασιλεὺς ᾿Ιωάννης δωρεαῖς μεγαλοπρεπέσι καὶ δεξιώσεσιν ἄλλαις ἐφέλκεται καὶ τοῖς Ρωμαϊκοῖς καὶ αὐτοὺς ἐγκαταλέγει στρατεύμασι, χώρας ἄλλοις ἄλλας διανειμάμενος εἰς κατοίκησιν, τοῖς μὲν κατὰ Θρᾴκην καὶ Μακεδονίαν, τοῖς δ᾿ ἐν ᾿Ασίᾳ κατὰ Μαίανδρον καὶ Φρυγίαν » [27, vol. 1, p. 37 2–9].
Возможно, именно в связи с этим первое поколение кочевников определялось в источниках в составе византийской армии как отдельная группа воинов – «скифов». Вместе с тем уже в конце правления Михаила VIII в источниках не фиксируется приведенный этноним (куманы). Очевидно, именно к этому времени и произошла их правовая ассимиляция с категорией ромейского населения – воинов-стратиотов. Наше предположение позволяет признать ошибочным мнение П. Мутафчиева о том, что наемники, получившие земельные участки, априори обретали статус воинов-стратиотов [7, c. 9].
Как уже упоминалось, воинские земли раздавались не только ромеям-стратиотам, но и наемникам. Нередко они получали земельные участки как дополнительную к жалованью или как замещающую его форму материального обеспечения. Так, при Михаиле Палеологе лаконцы получили земли в столице [29, vol. I, p. 253 6–10]; при Андронике II критяне были заселены на малоазийской территории [29, vol. III, p. 235 27–29, 237 1–5]; наемникам в дополнение к денежной оплате службы передали участки в годы войны между Андроником II и Андроником III [22, vol. 1, p. 164 22–23; 22, vol. 1, p. 167 7–10].
В большинстве случаев источником земельных пожалований был императорский домен. Однако при определенных условиях василевсы предпринимали изъятия и распределения между стратиотами частных земель. В частности, в начале XIV в., после захвата турками большей части византийских мало-азийских владений, Андроник II попытался именно таким методом исправить ситуацию. Очевидно, Марулис, направленный императором на Восток, должен был не просто нанять на службу анатолийское население, но и создать условия материальной заинтересованности незнатных воинов, простых крестьян– мигрантов. Это определенно было возможно через распределение опустевших земель [29, vol. IV, p. 459 16–19].
Таким образом, василевсу удалось не только пополнить ряды византийской армии новоявленными стратиотами, но и, очевидно, повысить моральный дух армии, движимой идеей защиты от противника собственных земель.
Потребность в земельных участках для стратиотов нередко удовлетворялась путем изъятия земель у монастырей, церкви и знати. Согласно актовым материалам василевс получал одобрение на проведение таких мероприятий [21, p. 212].
В период междоусобиц XIV в. распределение конфискованных земель среди страти-отов использовалось как основной механизм материального стимулирования к службе. Так, именно обещание распределения земель, приносящих «доходы в изобилии» (« τοῖς δὲ στρατευομένοις πόρους προσόδων καὶ μισθῶν ἐπιδόσεις » [27, vol. 1, p. 397 11–12]), позволили Андронику III собрать против деда пятьдесят тысяч конных воинов (« αὐτὸς δὲ ἄρας ἐξ ᾿Οδρυσῶν ἅμα πεντακισμυρίοις ἱππεῦσιν ἢ ὀλίγου δέουσιν » [22, vol. 1, p. 108 11–13]). Кроме того, заверениями распределить участки между достойными славной службой соратниками изменник Сиргиан смог привлечь на свою сторону многочисленную толпу: « ἐν οἷς γῆς τε ὑπισχνεῖτο κληροδοσίας καὶ χρημάτων χάριτας καὶ ἀξιωμάτων ἐπιδόσεις καὶ ὅσα ἐπὶ τούτοις ὅμοια » [27, vol. 1, p. 495 16–18].
Очевидно, опасаясь предательства, Андроник III начал раздачу земель воинам и военачальникам еще в период военного противостояния Андронику II. По этой причине одним их условий Эпитавтского мира было признание произведенных захватов земли: «τῆς μέντοι γῆς τοὺς στρατιώτας δέομαι μὴ ἀφαιρεθῆναι» [22, vol. 1, p. 165 2–3]. Эти мероприятия по перераспределению земельных участков явно были направлены не только на покрытие возможных расходов стратиотов в особых условиях внутренней войны. В связи с необходимостью выделение земель могло быть направлено на увеличение численности войск. Основным механизмом решения проблемы выступал перевод земель в статус внесенных в «воинские списки»: «καὶ καταλόγους ἔτασσεν ἑτέρους πρὸς τοῖς οὖσιν, ὅπως πλείων γίγνοιτο ἡ στρατιά» [22, vol. 1, p. 287 24–25–288 1].
В палеологовский период воинские списки обозначались как отратийтикои катаХоуонили просто катаХоуон [22, vol. 1, p. 287 2 4 ]. Источники указывают на то, что первичным назначением воинских каталогов было определение личного состава, а не только опись имущества.
Безусловно, «запись в войско» означала раздачу земель тем, кто был внесен в каталог. Именно в таких формулировках Никифор Григора описал получение земель куманами. Отметим, что под лицами, записанными на воинскую службу, понимались только воины-стратиоты: « ἀλλὰ πρὶν αὐτοὺς καταλῦσαι τὴν πλάνην, ὁ βασιλεὺς ᾿Ιωάννης δωρεαῖς μεγαλοπρεπέσι καὶ δεξιώσεσιν ἄλλαις ἐφέλκεται καὶ τοῖς Ρωμαϊκοῖς καὶ αὐτοὺς ἐγκαταλέγει στρατεύμασι, χώρας ἄλλοις ἄλλας διανειμάμενος εἰς κατοίκησιν, τοῖς μὲν κατὰ Θρᾴκην καὶ Μακεδονίαν, τοῖς δ᾿ ἐν ᾿Ασίᾳ κατὰ Μαίανδρον καὶ Φρυγίαν » [27, vol. 1, p. 37 4–9].
В связи с этим показателен сюжет о снаряжении аланских отрядов Андроником II, распорядившимся снабдить их стратиотским оружием и лошадьми: « πᾶν ὅπλον καὶ πᾶς ἵππος ἠθροίζετο· ἠρευνῶντο κῶμαι, πόλεις, οἰκίαι τῶν εγιστάνων, οἰκίαι τῶν ἐν στρατείαις κατειλεγμένων » [27, vol. 1, p. 205 16–18]. Тот же сюжет присутствует и в сочинении Пахимера. Историк определенно указывает на стратиотов, а не наемников: «ка'и Т'ппой^'икарйоа? ёк тйр ИбИйР отратиштйр цаХиота» [29, vol. IV, p. 339 12 ].
Следуя Иоанну Кантакузину, можно предположить, что группы стратиотов как о! той отратиштикой катаХоуой отличались от наемников получением последними жалованья (хор^у'иа?) как основной формы материального содержания: « ὁρῶν δὲ οὐ τοῦ καταλόγου μόνου τοῦ στρατιωτικοῦ πολλοὺς, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων οὐκ ὀλίγους προφάσει τοῦ μὴ τὰς παρὰ βασιλέως ἑκάστῳ τεταγμένας χορηγίας ἀκεραίους εἶναι, παντάπασιν ἀμελοῦντας πρὸς τὰς στρατείας καὶ τῆς ἐξ αὐτῶν ὠφελείας ἀποστεροῦντας τὸ κοινὸν » [22, vol. 2, p. 58 15–19].
В поздний период воинская служба как форма публичного обязывания обо- значалась термином «отратеИа»: «twv ev στρατείαις κατειλεγμένων» [27, vol. 1, p. 205 17–18]. Это значение встречается и у Кан-такузина: «παντάπασιν ἀμελοῦντας πρὸς τὰς στρατείας» [22, vol. 2, p. 258 18], «πρὸς τὰς στρατείας ἀπροφασίστους» [22, vol. 2, p. 259 3–4]. К сожалению, состояние источников не позволяет выделить определенные и конкретные обязанности воинов. Тем не менее мы располагаем обилием общих формулировок. В частности, это относится к известной грамоте Андроника II жителям Янины, в которой сообщается об отрядах воинов, «имеющих икономии и обязанных служить» [20, p. 81].
Учитывая специальный статус воинской службы стратиотов, по окончании боевых действий отряды расформировывали, а воинов отпускали домой. При этом стратиоты как резервисты были готовы к возможности повторного похода [29, vol. I, p. 285 3, 295 13–15].
Боеспособность вооруженных сил при роспуске стратиотских формирований поддерживалась многочисленными наемниками и изъявившими желание остаться на службе ромеями. Так, например, поступил Канта-кузин: « ὅσοι ἐκ χωρίων τὰς προσόδους εἶχον… ἀπέπεμπε πρὸς τὰς οἰκίας... ὅσοις δὲ μὴ γυναῖκες ἦσαν καὶ τέκνα, κατεῖχε παρ᾿ αὐτῷ, καὶ εἴ τις ἕτερος ἑκὼν εἶναι ὑπελείπετο » [22, vol. 2, p. 175 5–7, 9–11].
Об объемах поземельных обязательств свидетельствует сообщение Пахимера о приеме на службу многочисленных отрядов алан. Как пишет историк, кроме выданного жалованья, наемники получили лошадей, изъятых у стратиотов, и были обеспечены необходимым вооружением [29, vol. IV, p. 339 10–21]. По уточнению Григоры, снаряжение было выделено от воинов, «записанных на военную службу»: « τῶν ἐν στρατείαις κατειλεγμένων » [27, vol. 1, p. 205 17–18].
Итак, основу стратиотской службы в мирное время составляла обязанность во-инов-стратиотов экипироваться и быть в постоянной боевой готовности. Очевидно, исполнение данной обязанности находилось в прямой зависимости от дохода с земельных владений: «аХХои 8ё иоХХаки?... ёкХеХоипйиЙР тйр ката офа? оНкоро^Ийр т^р апорИар elxcv каи проаипой^ерои той отратейеоОаи кйХй^а» [29, vol. III, p. 285 25-27]; « opwv be...
οὐκ ὀλίγους προφάσει τοῦ μὴ τὰς παρὰ βασιλέως ἑκάστῳ τεταγμένας χορηγίας ἀκεραίους εἶναι, παντάπασιν ἀμελοῦντας πρὸς τὰς στρατείας » [22, vol. 2, p. 58 15–18].
Состав и численность провинциального войска
Безусловно, как и в средневизантийскую эпоху, от стратиота требовалась характерная воинская подготовка, которой он мог достичь в предварительном обучении и тренировке: « Οὐκ ἐνὸν δὲ ἄλλως στρατηγικῶς καὶ ἐμπείρως πρὸς πόλεμον παρασκευασθῆναί σε, εἰ μὴ πρότερον ἐξασκήσεις καὶ ἐκπαιδεύσεις τὸ ὑπὸ σὲ στράτευμα, ἐθίζων αὐτὸ καὶ ἐγγυμνάζων εἴς τε τὴν τῶν ὅπλων μεταχείρισιν » [25, ch. 19, sec. 3 1–3]. При этом целый ряд факторов девальвировал это обязательство.
В поздневизантийский период именно неподготовленность стратиотских войск обусловила непригодность армии и стала одной из причин многочисленных поражений. В связи с этим можно привести множество примеров, когда неопытность и безграмотность в военном искусстве стали причиной разгромов византийских контингентов: войско Мануила Лапардаса в войне против эпирцев (« μετὰ στρατεύματος συρφετώδους καὶ ξύγκλυδος » [19, p. 146 24–25]); поражение пафлагонийских стратиотов в период правления Михаила VIII (« ῏Ησαν δ᾿ ἄλλως καὶ στρατείας οὐδὲν εἰδότες » [29, vol. I, p. 293 13]); случай с войском Андроника III в походе против Орхана (« τὸ δὲ πλεῖστον ἀγοραῖοί τινες καὶ βάναυσοι καὶ δῆλοι ὄντες κιβδηλεύσειν τὴν μάχην » [27, vol. 1, p. 433 19–21].
Показателен в связи с этим случай с лже-Ивайло, под знамена которого с подачи василевса, под эгидой борьбы против турок была собрана «неподготовленная, неорганизованная и невооруженная армия» [29, vol. III, p. 213 14–19]. Этот пример показывает, что под воздействием внешних факторов император в частном порядке мог пойти на увеличение численности войск, делая неотвратимым укомплектование армии неподготовленными стратиотами. Специальная роль стратиотских формирований подчеркивается рассредоточением воинского населения во всех провинциях
Византии. Основываясь на данных Пахимера, можно определенно указать, что отряды во-инов-стратиотов комплектовались в фемах: Пафлагония, Букеларион, Опсикион, Не-окастрон, Фракесион, Анатоликон, Вифиния [29, vol. II, p. 403 9–16]. Акрополит, Григора, Кантакузин и Морейская хроника повествуют о сражениях и операциях с участием страти-отов из Македонии [19, p. 145 4–5], Фессалии (« ἀκούειν δ᾿ οἶμαί σε τὴν Θετταλικὴν ἵππον ἡλίκη » [27, vol. 2, p. 663 6]), Фракии (« οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὅσον ἦν στρατιωτικὸν ἐν ταῖς Θρᾳκικαῖς κώμαις καθιδρυμένον» [22, vol. 1, p. 101 14–15]), Родопа («οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὅσοι Μόῤῥαν κατῴκουν καὶ τῆς Ροδόπης ὅσαι πόλεις ἦσαν ὑπήκοοι Ρωμαίοις » [22, vol. 2, p. 161 9]), Велигоста и Скорта [31, p. 330].
Поскольку в редких сообщениях о численности византийской армии учитывался весь состав военнослужащих, определить конкретную численность стратиотов не представляется возможным. Тем не менее на страницах нарративных источников встречаются упоминания о потребности империи в минимальном контингенте на отдельных театрах военных действий.
Прежде всего, стоит отметить цифру в тысячу стратиотов, необходимых для обеспечения защиты Македонии, Фракии и восточных владений. Это количество упомянуто с разницей в четверть века разными авторами [29, vol. IV, p. 531 21–22, 533 25; 27, vol. 1, p. 317 22–23, 318 1].
Основываясь на сообщениях историков о полном боевом обеспечении десяти–шест-надцатитысячного отряда алан за счет ромеев-стратиотов («воинов из списков») [29, vol. IV, p. 337–339, 341–345; 27, vol. 1, p. 205], можно предположить, что численность стратиотских формирований как минимум была равной (учитывая наличие двух- и трехлошадных).
Несмотря на такие частные примеры, большинство сообщений источников не позволяют определить численность собственно византийского контингента. В частности, это относится к известному в науке сообщению Пахимера о сорокатысячном войске, отправленному под командованием Иоанна Палеолога на Запад [29, vol. II, p. 421 3–5].
В состав войска могли входить не только ромеи, но и находившиеся на службе импе- рии туркопулы и куманы. Численный состав туркопулов можно восстановить по данным относительно их участия в сражениях начала XIV века. Пахимер сообщает лишь о 2 000 турецких воинов, пришедших к каталонцам с Востока [29, vol. IV, p. 643 16–19]. Исходя из упоминания Григоры о прибытии к каталонцам 500 турок Халила из Малой Азии [27, vol. 1, p. 228 22–24], можем предположить, что упомянутые Пахимером турки и составляли отряд Халила. В то же время следует заметить, что в 1308 г., по данным Григоры, в каталонском войске находилось 3 000 турок, разделившихся позднее примерно поровну на отряды Мелика и Халила [27, vol. 1, p. 248 5–6, 248 18–23–249 1–2]. Вопрос о численности куманов представляется еще менее определенным 2.
Самостоятельную категорию между воинами и мирным населением образовывали акриты. Эти группы независимо от страти-отов обеспечивали защиту восточных рубежей империи. На основе ранее проведенных изысканий мы пришли к выводу о том, что в раннепалеологовский период была проведена реформа, в ходе которой акриты были переведены в стратиотское состояние и находились под командованием командиров-прониаров [2; 3; 4].
Экономически слабые категории военнослужащих, представленные стратиота-ми – обедневшими крестьянами и акритами, переведенными в статус стратиотов, – были подчинены прониарам. Таким образом обеспечивалась имперская политика по увеличению количества иноземных воинов-наемников за счет снижения затрат на содержание ромейских войск и контингентов, укомплектованных населением империи. Последнее было возможно в результате передачи обязанностей по содержанию рядовых воинов-ромеев прониарам, одной из статей расходов (десять процентов) которых была выплата жалованья стратиотам, в том числе и акритам-стратиотам, приписанным к пожалованным прониям.
Отметим, что хронологическое ограничение сведений об акритах концом XIII в., могло быть прямо связано с перемещением восточных границ империи вследствие турецкой экспансии. Возможно, этот фактор окончательно уравнял в техническом значении акритскую службу со стратиотской. В результате этого формирования пограничников закреплялись за крепостями фем Неокастрон, Фракисион и Опсикион.
К проблеме структуры фемного войска
Раскрываемая нами концепция фемного войска в поздний период требует внимания к вопросу о системе командования. В связи с этим необходимо остановиться на доктринальном понимании вопроса специфики провинциального управления. С точки зрения военно-политического аспекта темы представляют интерес мнения Э. Арвейлер и Л. Максимовича.
Э. Арвейлер выдвинула идею сохранения фемной военной организации с традиционной структурой [11, p. 127, 137, 163]. При этом, по мнению исследователя, дробление фем на множество малых форм привело к выделению в качестве основной структурной единицы катепанства [11, p. 125–126]. Дука фемы осуществлял военное и гражданское руководство катепанством [11, p. 126–127], опираясь на кастрофилаксов и прокафименов, обеспечивавших безопасность города и командование гарнизоном [11, p. 127].
По мнению Л. Максимовича, фемы как административно-территориальные единицы перестали существовать [6, c. 26–27, 30]. Основной административно-территориальной единицей в империи были катепаникионы во главе с кефалием [6, c. 31, 42, 50], осуществлявшим военные и гражданские функции [6, c. 89]. Кефалию катепаникиона помогал прокафимен [6, c. 103].
Л. Максимович полагал, что к концу XIV в. должность прокафимена была преобразована в титул [6, c. 105]. При этом кастрофи-лакс выполнял функции помощника кефалия в управлении городским гарнизоном [6, c. 106]. Провинциальные формирования были представлены аллагией [6, c. 109], подконтрольной чаушу. Пытаясь разграничить компетенцию кастрофилакса и чауша, Л. Максимович без существенных оснований предположил, что чауш командовал провинциальным войском, состоявшим из прониаров [6, c. 109], и не был подчинен кефалию. В то же время кастрофи-лакс, осуществляя командование гарнизоном, находился в прямом подчинении кефалия [6, c. 109–110]. Возникает вопрос, кому же тогда был подчинен чауш? В связи с этим следует указать на предположение, выдвинутое М. Бартусисом и П.И. Жаворонковым. Историки полагают, что в палеологовское время продолжилась тенденция к укрупнению фем, выраженная в создании квазифемной организации – великой аллагии, подконтрольной великому чаушу [14, p. 194–195, 202; 1, c. 63–64].
Обобщая основные положения обозначенных концепций, хотелось бы сделать следующие замечания. Великой аллагией современники называли большое войсковое объединение. Именно такое понимание конкретизируется сообщением Пахимера [29, vol. II, p. 403 9–16]. При этом в одном из пассажей историк упомянул об «аллагиях василевса» [29, vol. IV, p. 407 16–19]. Полагаем, такой подход определенно указывает на использование историком термина «аллагия» в его традиционном значении – военный отряд численностью от 50 до 350 воинов 3.
Важно подчеркнуть, что, если бы функционально должности дуки, кефалия и прока-фимена замещались чаушем, а великий чауша командовал бы провинциальными войсками, последние должны были регулярно принимать участие в военных действиях и иметь постоянный состав и численность контингента. Все это, очевидно, должно было отразиться в источниках. Однако мы лишь эпизодически без какой-либо системности встречаем упоминания должности-титула великого чауша и чауша.
Так, из сообщений Пахимера мы узнаем об участии войска великого чауша Хранислава в сражениях с турками [29, vol. IV, p. 469 6–12]. Кроме того, по данным этого историка, великий чауша Умпертопул командовал отрядом, участвовавшим в сражении с каталонцами у Апроса [29, vol. IV, p. 593 4–5, 599 16–18]. Нам не известен состав войск этих полководцев. Однако сообщение Пахимера о командовании Умпертопулом отрядом из двухсот всадников при обороне Визы [29, vol. IV, p. 693 6–10] явно указывает на ошибочность предположений о полномочиях великого чауша, высказанных в литературе. В противном случае можно было бы утверждать, что все фемные формирования составляли отряд такой численностью. В подтверждение нашего предположения можно упомянуть о великом чауше Папиласе, вообще не участвовавшем в военных действиях [29, vol. III, p. 21].
Столь частный характер упоминаний в источниках о великом чауше предположительно можно было бы объяснить двумя основаниями: непосвященностью авторов в вопросы военной организации либо неразвитостью самих институтов чауша и великого чауша и, как следствие, отсутствие тех функций, которые им были присущи в более поздний период. Первое из указанных положений определенно не подтверждается, поскольку авторы источников прекрасно разбирались в системе военно-командного управления. Таким образом, считаем очевидным, что в изучаемый период титул-должность не играл существенной роли в военной организации империи. Кроме того, войско чауша и великого чауша не имело постоянного состава.
Исходя из указанного, можно предположить, что фемная система в раннепалео-логовский период в определенной степени сохранила свое традиционное значение в военной организации. Учитывая терминологическую неопределенность, характерную для палеологовской империи, считаем необходимым признать актуальность метода, предложенного Э. Арвейлер, в соответствии с которым с дуками фем следует отождествлять лиц, не упомянутых в соответствующей должности, но чью компетенцию и общие действия можно сопоставить с компетенцией главы фемы [11, p. 138].
Помимо основных провинциальных органов управления, источники содержат упоминания о провинциальных войсковых соединениях, сформированных фемах: Паф-лагония, Букеларион, Опсикион, Неокастрон, Фракесион, Анатоликон, Вифиния [29, vol. II, p. 403 9–16]. В приведенном сообщении Пахимера упоминаются также и тагмы. В то же время при описании войска Филанфропина историк упоминает о тагматархах и навархах [29, vol. II, p. 401 20–23]. Можно предположить, что в последнем случае упомянуты главы воинских формирований городов или фем – кефалии и дуки соответственно.
Более определенную структуру фемного войска представить крайне сложно, прежде всего, ввиду разрозненности сообщений источников и отрывочного характера инфор- мации. Тем не менее отдельные указания позволяют нам сделать следующие выводы.
Из используемых нами источников известны лишь три упоминания комитов. В двух случаях Пахимер сообщает о конкретных людях: комите конницы василевса Ходине [29, vol. I, p. 47 10] и комите судна генуэзцев [29, vol. IV, p. 579 23–28]. Третье упоминание содержится в пассаже, посвященном характеристике сорокатысячной византийской армии, находившейся под управлением Иоанна Палеолога. В перечне командных должностей вслед за мегистанами, лохагами и тагматархами указаны комиты [29, vol. II, p. 401 22]. Сообщения историка о комитах не позволяют конкретизировать их функции и роль. Однако, учитывая систему управления армией Византии XI–XII вв., можно предположить, что комиты традиционно должны были командовать отрядом численностью от двухсот до четырехсот воинов.
Следующими в иерархии были должности среднего и высшего командного звена, представленные лохагами и таксиархами. Сообщения о них встречаются неоднократно и имеют системный характер. Так, по данным Пахимера, лохаги составляли командный состав фемного войска, вошедшего в армию Иоанна Палеолога [29, vol. II, p. 401 21–23]. Григора указал, что под началом Ликарио служили «лохаги с отрядами» [27, vol. 1, p. 96]. Описывая тяжелое положение византийцев на востоке, Пахимер сообщает, что малые отряды ромеев во главе с лохагами «отважно сражались с турками» [29, vol. IV, p. 453 4–9]. В описании сражения у Апроса Григора подчеркнул, что Михаил IX уговорил лохагов остаться на поле боя [27, vol. 1, p. 231]. Обобщение приведенных данных позволяет предположить, что лохаги возглавляли сотни, заменив кентархов. Кроме того, представляет интерес упоминание Пахимера о том, что в войске Иоанна Палеолога было «много лохагов из мегистан» [29, vol. II, p. 421 5–7]. Это сообщение свидетельствует о назначении на должности лохагов знатных ромеев, очевидно из числа прониаров. В связи с этим следует отметить, что Пахимер, характеризуя ромейский или наемный отряд, практически всегда сообщал о присутствии мегистан [29, vol. I, p. 41 16, 181 22–23, 273 5–6 ; vol. II, p. 40121–23, 421 6, 5936–11 ; vol. III, p. 29324–30; vol. IV, p. 339 9–11, 465 15–16, 475 20–22, 533 7, 583 6].
Таким образом, можно предположить, что в этих пассажах историк вновь указывал на наличие в конкретном войске сотников-лохагов.
Данные о таксиархах в основном содержатся в сочинении Григоры. Историк говорит о них в пяти пассажах, причем во всех случаях сообщает о таксиархах в связке с лохагами [27, vol. 1, p. 68 12, 96 21, 264, 265, 230 24–231 1–3], очевидно тем самым подчеркивая их иерархическую взаимосвязь. Численность таксии установить не удается. Тем не менее, учитывая наиболее частое упоминание в источниках отрядов численностью, кратной десяти, можно предположить, что таксия представляла собой часть, в которую входило около тысячи воинов, – хилию, и была приблизительно равна мире. Здесь лишь следует добавить, что численность таксии из-за сокращения фемных формирований была ограничена. Об этом, в частности, свидетельствует сообщение Григоры о том, что Филис Палеолог набрал «небольшое войско с лохагами и таксиархами» [27, vol. 1, p. 264 6].
Подходя к выводу о сохранении армии в прежнем составе из наемников и стратиотских формирований, мы сталкиваемся с вопросом о том, чем можно объяснить возросшую военную мощь Византии в период правления Михаила VIII. Очевидно, что успех византийских войск был обусловлен целым рядом факторов. При этом главную роль сыграла реорганизация военной системы, заключавшаяся в передаче прониарам попечения и командования страти-отским ополчением на востоке.
В этой системе из прониаров формировались местные регулярные отряды, находившиеся в подчинении кефалию или про-кафимену. Представленное низшим и средним командным звеном «прониарское войско» на время военных экспедиций и стратегических операций было усилено стратиотскими формированиями. В такой структуре прониары реализовывали командные полномочия над десятками, полусотнями и сотнями.
В рамках военных кампаний войсковые формирования собирались в административном центре, к которому они относились: на востоке – города, далее фемы; на западе – ка-тепаникионы.
В ходе сборов происходило объединение под руководством на первой ступени: восток – прокафимена, запад – прокафимена, возможно чауши, упомянутого в источниках в должности сотника – лохага; на второй ступени: под командованием дуки и кефалия соответственно, упомянутых в источниках в должности таксиархов. В соответствии с традиционной структурой командований в крупных кампаниях объединенные фемные формирования должны были выступать под командованием великих доместиков или же протостраторов. Однако известный нам случай применения восточных фемных контингентов на западном направлении в составе объединенной армии [29, vol. II, p. 421] еще раз подчеркивает отсутствие постоянной иерархической системы командных титулов. Вместе с тем, представляя перечень званий, занимаемых командирами различных частей армии («мегистаны, лохаги и тагматархи, комиты и навархи») [29, vol. II, p. 401 21–23], находившейся под общим управлением Иоанна Палеолога, Пахимер определенно сообщает о разделении командования тагмными и фемными войсками на высшем и среднем уровне.
Представленная нами модель структурной реорганизации, очевидно, была связана с изменением в стратегии и тактике византийских войск. Полагаем, что произошедшие перемены имели целью создание новой системы обороны границ, позволявшей реагировать на вражеские вторжения, не дожидаясь приказа из столицы. Так, при нападении местные контингенты собирались в административном центре либо осуществляли оборону конкретных городов без усиления с помощью соседних укрепленных пунктов общей административно-территориальной единицы. Наиболее показательным примером можно считать сражения за Магнезию и Филадельфию, оборона которых осуществлялась силами местных военных формирований [29, vol. IV, p. 463, 469–471, 471–473, 535].
Полагаем, именно местные провинциальные войска несли ответственность и обеспечивали безопасность укрепленных населенных пунктов и городов, являвшихся элементами оборонительной системы. Ее поражение, прорыв линии гарнизонов, разрушение пассивной системы обороны и, как следствие, продвижение войск противника вглубь государства по решению василевсов в наиболее свободные от западных кампаний периоды нейтрализовыва-лись организацией крупных военных операций с последующим выдворением противника за пределы империи.
Результаты. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о сохранении в ран-непалеологовский период практики комплектования стратиотских формирований в фемах Пафлагония, Букеларион, Опсикион, Не-окастрон, Фракесион, Анатоликон, Вифиния. Вместе с тем не представляется возможным установить точную численность контингента стратиотов. Безусловно, причиной этому было, в том числе, практически не прекращавшееся изменение границ империи.
Провинциальные вооруженные силы от начала комплектования до ведения военных действий находились под полным контролем фемной администрации в лице дуки и кефалия. Отсутствие сообщений о малых подразделениях могло быть вызвано изменением их реального значения в боевых построениях. Следует подчеркнуть выявленную тенденцию объединения гражданской и военной функций провинциального управления и назначения на должность глав фем представителей знатных семей, состоявших на реальной военной службе.
Список литературы Фемная система и провинциальные вооруженные силы византии раннепалеологовского периода (1259-1328 гг.)
- Жаворонков, П. И. Структура и командный состав сухопутных сил Никейской империи: традиции и новации / П. И. Жаворонков // Άντίδωρον: К 75-летию академика РАН Геннадия Григорьевича Литаврина. - СПб.: Алетейя, 2003. - С. 57-65.
- Золотовский, В. А. К истории византийской армии в XIII в. Реформа акритской службы Михаила VIII Палеолога / В. А. Золотовский // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. - 2009. - № 6. - С. 65-68.
- Золотовский, В. А. Прония в военной организации Византии раннепалеологовского времени. Часть 1 / В. А. Золотовский // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. - 2015. - Т. 20, № 3. - С. 100-115. - DOI: 10.15688/jvolsu4.2015.3.10
- Золотовский, В. А. Прония в военной организации Византии раннепалеологовского времени. Часть 2 / В. А. Золотовский // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. - 2016. - Т. 21, № 2. - С. 40-51. - DOI: 10.15688/jvolsu4.2016.2.3
- Кулаковский, Ю. А. Содержание "Стратегики" / Ю. А. Кулаковский // Стратегика / пер. с среднегреческого и комм. А.К. Нефедкина. - СПб.: Алетейя, 2005. - С. 119-142.
- Максимовић, Л. Византиjска провинциjска управа у доба Палеолога / Л. Максимовић. - Београд: Византолошки институт Српске академије наука и уметности, 1972. - XIX, 199 с.
- Мутафчиев, П. Войнишки земи и войници в Византия през XIII-XIV в. / П. Мутафчиев // Списание на Българска Академия на науките. - 1923. - Вып. 27. - C. 1-113.
- Сметанин, В. А. О тенденциях идеологической и социальной динамики поздневизантийского общества в период перманентной войны / В. А. Сметанин // Античная древность и средние века. - 1975. - Вып. 11. - С. 99-109.
- Сметанин, В. А. Расходы Византии на армию и флот (1282-1453) / В. А. Сметанин // Античная древность и средние века. - 1975. - Вып. 12. - С. 117-125.
- Шукуров, Р. М. Тюрки в византийском мире (1204-1461) / Р. М. Шукуров. - М.: Изд-во Московского ун-та, 2017. - 631 c.
- Ahrweiler, H. L'histoire et la géographie de la région de Smyrne entre les deux occupations turques (1081-1317) particulièrement au XIII-e siecle / H. Ahrweiler // Byzance: les pays et les territories. - London: Variorum Reprints, 1976. - Р. 1-204.
- Bartusis, M. C. A Note on Michael VIII's 1272 Prostagma for His Son Andronikos / M. C. Bartusis // Byzantinische Zeitschrift. - 1988. - Bd. 81. - S. 268-271.
- Bartusis, M. C. The Kavallarioi of Byzantium / M. C. Bartusis // Speculum. Journal of Medieval Studies. - 1988. - Т. 63. - P. 343-350.
- Bartusis, M. C. The Megala Allagia and the Tzaousios: Aspects of Provincial Militar Organization in Late Byzantium / M. C. Bartusis // Revue des etudes byzantines. - 1989. - T. 47. - P. 183-207.
- Bartusis, M. C. On the Problem of Smallholding Soldiers in Late Byzantium / M. C. Bartusis // Dumbarton Oaks Papers. - 1990. - Vol. 44. - P. 1-26.
- Bartusis, M. C. The Late Byzantine Army: Arms and Society, 1204-1453 / M. C. Bartusis. - Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992. - XVII, 438 p.
- Charanis, P. On the Social Structure and Economic Organization of the Byzantine Empire in the Thirteenth and Later / P. Charanis // Byzantinoslavica. - 1951. - T. XII, Fasc. 1-2. - Р. 94-153.
- Constantini Harmenopuli Manuale legum, sive, Hexabiblos: cum appendicibis et legibus agrariis / ad fidem antiquorum librorum mss. editionum recensuit, scholiis nondum editis locupletavit, Latinam Reitzii translationem correxit, notis criticis, locis parallelis glossario illustravit Gustav Ernst Heimbach. - Lipsiae: T.O. Weigel, 1851. - XXXII, 1003 p.
- Georges Acropolites. Historia // Georgii Acropolitae. Opera. Vol. 1. Continens Historiam, Breviarium historiae, Theodori Scutariotae Additamenta / rec. A. Heisenberg. - Lipsiae: in aedibus B. G. Teubneri, 1903. - P. 1-198.
- Imperator Andronicus II. Palaeologus confirmat iura, privilegia, exemptiones et posessiones ecclesiae et civitatis Ioanninorum // Acta et diplomata graeca medii aevi / ed. F. Miklosich, J. Müller. - Vindobonae: C. Gerold, 1887. - T. V. - P. 77-84.
- Imperator Michaël Palaeologus confirmat monasterio liberam possessionem fundi quatruor iugerum, quem donat coenodio prope metochium Pyrgam // Acta et diplomata graeca medii aevi / ed. F. Miklosich, J. Müller. - Vindobonae: C. Gerold, 1890. - T. VI. - P. 212-214.
- Ioannes Cantacuzenus. Historiae: in 3 vols. / Ioannes Cantacuzenus. - Bonn: Weber, 1828. - Vol. 1. - 560 p.; 1831. - Vol. 2. - 615 p.; 1832. - Vol. 3. - 365 p.
- Jus graeco-romanum. T. III: Novellae constitutiones imperatorum post Justinianum quae supersunt collatae et ordine chronologico digestae / ed. C.E. Zachariae von Lingenthal. - Lipsiae: T. O. Weigel, 1857. - XXXIV, 749 p.
- Kyriakidis, S. Warfare in Late Byzantium, 1204-1453 / S. Kyriakidis. - Boston: Brill, 2011. - 272 p.
- Le traité sur la guérilla (De velitatione) de l'empereur Nicéphore Phocas (963-969) / ed. G. Dagron, H. Mihăescu, J.-C. Cheynet. - Paris: Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1986. - 358 p.
- Miklosich, F. Acta et diplomata graeca medii aevi / F. Miklosich, J. Müller. - Vindobonae, C. Gerold, 1871. - Vol. IV. - 442 p.
- Nicephorus Gregoras. Historia Romana: in 3 vols. / Nicephorus Gregoras. - Bonn: Weber, 1829. - Vol. 1. - 568 p.; 1830. - Vol. 2. - P. 571-1146; 1855. - Vol. 3. - 567 p.
- Oikonomidès, N. A propos des armées des premiers Paléologues et des compagnies de soldats / N. Oikonomidès // Travaux et Mémoires. - 1981. - T. 8. - P. 353-371.
- Pachymérès Georges. Relationes historiques / Éd. par A. Failler, V. Laurent. - Vol. I: Liv. I-III. - Paris: Les belles lettres, 1984. - 325 p.; Vol. II: Liv. IV-VI. - Paris: Les belles lettres, 1984. - P. 328- 667; Vol. III: Liv. VII-IX. - Paris: Inst. fr. d'ét. byz., 1999. - 305 p.; Vol. IV: Liv. X-XIII. - Paris: Inst. fr. d'ét. byz., 1999. - P. 306-727.
- Raybaud, L.- P. Le gouvernement et l'administration centrale de l'Empire byzantin sous les premiers Paléologues (1258-1354) / L.-P. Raybaud. - Paris: Sirey, 1968. - 293 p.
- The Chronicle of Morea = Tό Χρονικὸν τοῡ Μορέως / ed. by J. Schmitt. - L.: Methuen & Co., 1904. - XCII, 640 p.
- Theodorus Scutariota. Historia. Additamenta ad Georgii Acropolitae historiam // Georgii Acropolitae. Opera. Vol. 1: Continens Historiam, Breviarium historiae, Theodori Scutariotae Additamenta / rec. A. Heisenberg. - Lipsiae: In aedibus B. G. Teubneri, 1903. - P. 275-302.
- Καραγιαννόπουλος, I. Συμβολή στο πρόβλημα της στρατιωτικής "πρόνοιας" κατα της εποχή των Παλαιολόγων / I. Καραγιαννόπουλος. - Θεσσαλονίκη: 'Eκδόσεις βανίας, 1998. - 50 σ.