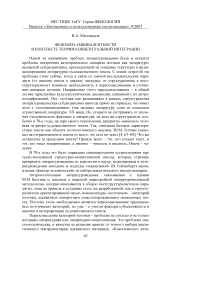Феномен амбивалентности в контексте теории концептуальной интеграции
Автор: Миловидов Виктор Александрович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 9, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120483
IDR: 146120483
Текст статьи Феномен амбивалентности в контексте теории концептуальной интеграции
ФЕНОМЕН АМБИВАЛЕНТНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Одной из важнейших проблем литературоведения была и остается проблема построения категориального аппарата поэтики как литературоведческой субдисциплины, претендующей на описание структуры и функционирования литературно-художественного текста. С новой остротой эта проблема стоит сейчас, когда в связи со сменой исследовательских парадигм (от анализа текста к анализу дискурса, от структурализма к постструктурализму) возникла необходимость в переосмысливании и уточнении аппарата поэтики. Направление этого переосмысливания – в общей логике перестройки культурологических дисциплин, связанной с их антро-поморфизацией. Нет, поэтика как развившаяся в рамках структурализма литературоведческая субдисциплина никогда прямо не отрицала, что имеет дело с «человековедением» (так называл литературу один из классиков отечественной литературы XX века). Но, открыто не отстраняясь от изучения «человеческого фактора» в литературе, на деле же структурализм, особенно в 70-е годы, на заре своего становления, аккуратно «выносил» человека за рамки художественного текста. Так, описывая базовые характеристики текста как объекта поэтологического анализа, Ю.М. Лотман указывал на отграниченность текста от всего, что есть не-текст [4: 67–69]. Что же оставалось за пределами текста? Прежде всего – тот, кто создает текст, и тот, кто текст воспринимает, а именно – читатель и писатель. Иначе – человек.
В 70-е годы это было оправдано сциенцистскими устремлениями тартуско-московской структурно-семиотической школы, которая, стремясь превратить литературоведение из идеологии в науку, моделировала в литературоведении методики и подходы «нормальной» (В. Гейзенберг) науки, изымая «фактор человеческий» из набора аналитического инструментария.
Антропологизация литературоведения, связываемая с идеями М.М. Бахтина и, наконец, с широкой перестройкой литературоведческой методологии, которая вписывается в общую постструктуралистскую парадигму, пока не привела к созданию столь же разработанной, как в структуралистски ориентированной науке, номенклатуры «поэтизмов» – категорий поэтики, адекватных конкретным смыслопорождающим механизмам текста. Поэтому столь необходимым является переосмысливание традиционных поэтических категорий, но уже – с учетом фактора субъективности в анализе и интерпретации художественного текста.
Переосмысление категорий поэтики – проблема не столько и не только историко-литературная или литературно-теоретическая. Это проблема эпистемологическая, и качество ее решения зависит от точного выбора аналитического инструментария, адекватного материалу. «Классическое» лите- ратуроведение может и должно делать это на путях интеграции со смежными дисциплинами, в частности лингвистическими, которые позволяют заглянуть туда, от чего литературоведы, как правило, до сих пор дистанцируются, – в сферу творческой ментальности.
Наиболее же близко к осмыслению «человеческого фактора» (перцептивно-аффективно-когнитивной составляющей литературного процесса) подошли активно развивающиеся сейчас лингвистические дисциплины – психолингвистика, дискурс-анализ, герменевтика, когнитивная лингвистика. В частности, в немалой степени может помочь литературоведению в прояснении базовых категорий поэтики интегративная в своей основе теория концептуальной интеграции М. Тернера и Ж. Фоконье – последняя уже была предметом внимания литературоведов [7].
Одним из «поэтизмов», которые, к сожалению, так и не получили окончательной разработки в «классической» поэтике, является гротеск – как прием, как форма художественного мышления, как принцип осмысливания и художественного воплощения жизненного материала. И это при том, что гротеск широко представлен не только в классике (от Аристофана и Рабле к Гофману и Салтыкову-Щедрину). Современная литература (проза Т. Толстой, Л. Петрушевской, Д. Липскерова, Ю. Мамлеева и др. авторов) широко пользуется гротесковыми принципами письма, гротеском как особой формой художественного «миромоделирования» (Ю.М. Лотман), восходящей еще к древнейшей литературе и получившей, с движением литературы во времени, многократное и многообразное воплощение.
Гротеск – одно из сложнейших явлений в литературе, неоднозначность которого привела к понятийной неопределенности и, как следствие, к наличию в литературоведении нескольких дефиниций термина «гротеск». Каждая из существующих на настоящий момент концепций гротеска построена на своем и «для своего» материала, что не добавляет отчетливости в определениях, провоцирует подмену термина «гротеск» другими, близкими по смыслу, литературоведческими понятиями и обусловливает вполне объективные трудности при анализе «гротескового» художественного произведения. В связи с этим справедливо замечание Д.В. Козловой о достаточно сильной «тенденциозности» и «ограниченности» многих исследований, «когда теорию гротеска стремятся построить на материале какой-либо эпохи или одного явления» [2: 46].
В литературоведении существует два подхода к изучению гротеска: 1) гротеск определяется как форма или компонент мировоззрения (М.М. Бахтин, Л.Е. Пинский, Д.С. Лихачев); 2) гротеск определяется как художественный прием (Ю.В. Манн, Б.М. Эйхенбаум, Д.П. Николаев, А.С. Бушмин, Ю.Б. Борев, О.В. Шапошникова и др.). Та или иная концепция обусловливает принципы анализа гротеска. Поскольку представители первого подхода рассматривают гротеск как форму или компонент мировоззрения, для них важно изучение сущности последнего. Ученые, придерживающиеся второй позиции, концентрируют внимание на форме гротескового образа, его структуре, элементах этой структуры. Иначе говоря, исследователи «группы Бахтина» изучают модель (гротеск) через подробное рассмотрение мировоззрения (т.е. того, что моделируется). Ученые «группы Манна» рассматривают сущность самой модели. Уже здесь мы можем сказать, что принципиальных противоречий между двумя подходами нет, они дополняют друг друга, подходя к изучаемому материалу с разных сторон. Мировоззрение (художественное мировоззрение) может существовать только в сформированном виде, как художественная форма, как прием. С другой стороны, прием – это оформленное мировоззрение, модель мира – как ее строит художник.
В литературоведении существует стойкое представление: гротеск не может быть вписан в единый ряд с прочими тропами, он есть не стилистический прием и не фигура речи, но – базовый принцип художественного осмысления (художественного моделирования) бытия. Так, Ю.В. Манн предлагает «… говорить не о "приеме гротеска", а о гротескном принципе типизации отражения жизни» [5: 22-23] (курсив мой – В.М.). Д. П. Николаев рассматривает гротеск «в качестве принципа, организующего не те или иные отдельные моменты повествования, а художественную структуру в целом» [6: 83] (курсив мой – В.М.).
При всей динамичности и многосторонности концепции гротеска – как она сложилась в отечественной науке – всем без исключения взглядам на гротеск свойственно одно (и это – родовая характеристика современного литературоведения): в качестве единственного своего объекта они видят текст, остаточный след более сложного, динамичного феномена – литературного процесса, литературно-художественного дискурса. Да, гротеск «лежит» в тексте, но рождается и «работает» он за пределами текста, в рамках креативной и рецептивной фаз литературно-художественного дискурса – их механизмы и нуждаются в описании, если нам необходимо построить целостную модель этого явления.
Проблема гротеска в принципе не решаема в рамках «текстоцентристской» или «логоцентристской» литературоведческой парадигмы. Феномен текста, проблематизируемый структурализмом (и пост-бахтинской филологией, которая вносит в структурализм функциональное начало, но – в ограниченных пределах, мало говоря о стоящих «за» текстом и «перед» текстом ментальных, когнитивных структурах) – недостаточное основание для разговора о словесном искусстве, о литературе, которая, как говорил еще Л.Н.Толстой, есть «одно из средств общения людей между собой» [8: 37]. Если внимательно читать классика, то окажется: для квалифицированного разговора о литературе недостаточно проанализировать «средства» искусства (тексты); требуется вести речь и о «людях» (ментальных, концептуальных системах, которые сталкиваются на поле текста), и даже о «между», которое маркирует различия в данных системах. Иными словами, необходимо говорить не о поэтике текста, но о поэтике дискурса – динамической процедуры текстопостроения и тексторецепции, в рамках которой учиты- ваются и ментальные, когнитивные структуры, относящиеся к суверенитету и того, кто «пописывает», и того, кто «почитывает».
И здесь явно недостаточным представляется инструментарий классического литературоведения XX века, которое, как правило, дистанцируется от участников литературного процесса (в структурализме и бахтинской парадигме автор как когнитивная структура «умер» задолго до классической статьи Р. Барта – равно как и читатель). Для решения проблемы гротеска (как это уже было сделано в рамках проблемы метафоры) необходимо привлечение смежных дисциплин – психолингвистики, когнитивной лингвистики и т.д., которые интенсивно разрабатывают проблемы ментальной составляющей культурного процесса.
В качестве основного, инвариантного признака гротеска, вслед за М.М. Бахтиным, ученые выделяют амбивалентность . На наш взгляд, это верно. Вместе с тем, необходимо применительно к гротеску прояснить понятие амбивалентности, которое у М.М. Бахтина используется в качестве рабочего термина, но не получает должной теоретической разработки, так как складывается на основе общих логоцентристских представлений ученого. Считая текст, высказывание высшей и единственной инстанцией культуры, ученый не учитывает ментальных, когнитивных предпосылок формирования гротескного образа и драматического в своей основе процесса претворения ментального в текстовое (креативная фаза литературнохудожественного дискурса), а также – столь же драматических – смыслопорождающих последствий работы гротескового текста (рецептивная фаза литературно-художественного дискурса). Отсюда – представление о метаморфизме как основной черте амбивалентности. В феномене амбивалентности М.М. Бахтин подчеркивает динамический характер взаимодействия полюсов гротеска: «Гротескный образ характеризует явление в состоянии его изменения, незавершенной еще метаморфозы, в стадии смерти и рождения, роста и становления… в нем в той или иной форме даны (или намечены) оба полюса изменения… и начало и конец метаморфозы» [1: 316– 317].
Конечно, это красиво: «беременная смерть, рождающая смерть» [1: 318], но не попадаем ли мы здесь опять во власть бахтинских метафор, которые, при всем их блеске и значительной объяснительной силе, все-таки не вполне соответствуют принципам научной точности, да и принципам здравого смысла, исходящего, в конечном итоге, из факта четкого структурирования семантических полей, четкой дифференциации лексикосемантических парадигм. Понятно, что в художественном образе границы между семантическими полями разрушаются, но все-таки, говоря об этом разрушении как принципе создания художественного образа, уместно исходить, как из основания, из факта наличия этих самых границ – с тем, чтобы корректно отслеживать логику данного разрушения.
Амбивалентность не есть противоречивость – последняя предполагает возможность взаимодействия и взаимоперехода. Амбивалентные объекты
(и части объекта) – это не переходящие друг в друга, не соотносящиеся друг с другом объекты, это объекты разноположенные. По крайней мере, таковыми они являются в рамках креативной фазы литературной фазы дискурса. Жизнь не есть смерть, смерть и рождение не соотносятся, не взаимодействуют друг с другом и не являются звеньями единой последовательности событий в рамках биологического (если расшифровывать метафору М.М. Бахтина) процесса.
Другое дело, что в переломные моменты культуры (а именно переломные моменты культуры «чреваты» гротесковостью) компоненты становящегося гротескового образа вдруг оказываются соположенными в едином ментальном пространстве. Но разорванное, дисгармоничное сознание, с одной стороны, и гротесковый образ как продукт текстуализации этой разорванности – это явления разного порядка, хотя и связанные между собой.
Логика формирования интегрированных ментальных (и текстуальных) пространств описывается теорией концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера, которая активно обсуждается и развивается ныне в рамках когнитивной лингвистики и психолингвистики. Она и может прояснить динамику создания и, соответственно, структуру гротескового образа, который производит ощущение целостности (а также иллюзию динамичности), не имея к этому никаких внутренних предпосылок, а только – внешние.
Идея концептуальной интеграции, описывающая формирование комбинированных (blends) ментальных пространств на основе пространств исходных (input 1, input 2…), основана на представлении о том, что в истоках ментальной деятельности человека лежит мотивация к интегрированию объектов, в том числе и совершенно разнородных [9: 158]. Комбинированное ментальное пространство (в нашем случае пространство гротеска) есть результат этого интегрирования и, как таковое, оно неизбежно представит как взаимосвязанные и взаимодействующие объекты, которые в исходных пространствах могут существовать как разнородные и даже несовместимые (incompatible) [Op. cit.: 159]. Многоступенчатый характер ментальных процессов, ведущих к порождению гротесковых (и прочих) образов, позволяет говорить об онтологических различиях, которыми характеризуются различные ступени «гротесковости».
Принципиальной, в частности, для дифференциации гротеска и иных процессов создания художественного мира, связанных с комбинированием ментальных пространств (к примеру, метафоры), является мнение Фо-конье–Тернера о том, что интегрированные в комбинированных пространствах объекты могут либо иметь (как мы полагаем, это имеет отношение к метафоре), либо не иметь (это случай гротеска) общих черт на уровне «генерирующих» (generic) пространств [Op. cit.: 161]. В метафоре благодаря сходству объектов осуществляется связь между ними, а также становится возможным переход от одного объекта к другому, т.е. их взаимодействие, сосуществование в динамическом режиме. Как комбинированное ментальное пространство метафора структурируется на базе компонентов (объектов, элементов), связанных в «генерирующем» ментальном пространстве общим признаком.
В образовании гротеска – комбинированного ментального пространства – участвуют взаимоисключающие концепты (жизнь-смерть, гармония-дисгармония, дух-тело и т. д.), не имеющие общего, сходного признака, объекты, существующие в составе разных семантических парадигм. Это означает, что такие объекты не могут быть соотнесены на уровне «генерирующих» ментальных пространств; но эта интеграция возможна при образовании пространств комбинированных. Интегрирующим же началом, которое представляется изначально «встроенным» в «генерирующее» пространство, является текстуальность: создавая гротесковый образ, литератор оперирует текстовыми конвенциями – таковы условия профессии.
Предпосылкой формирования гротеска в тексте является ментальное пространство, основанное на искусственном, насильственном интегрировании амбивалентных объектов. «Насилие» же над интегрируемыми, разноположенными феноменами осуществляет текст, одним из основополагающих принципов существования которого является описанный Р.О. Якобсоном и Ю.М. Лотманом принцип со-противопоставления [3: 48]. Не соотносимые на когнитивном уровне феномены, подчиняясь закону проекции парадигматики на синтагматические ряды, становятся элементами формирующейся в рамках текста единой семантической парадигмы и, уже на фазе рецепции, создают иллюзию взаимодействия и взаи-моперехода, при отсутствии всяких – кроме внешних – оснований к этому. Именно в тексте и за его пределами – на уровне рецепции, – становится возможным соположение, соотнесение и даже взаимоналожение разноположенных универсалий в их предельном значении: жизнь есть смерть, дух есть тело, гармония есть дисгармония, красота есть уродство, величие есть ничтожество и т.д.
Таким образом, говоря о гротеске только как о текстовом элементе, мы не в состоянии раскрыть его поэтической специфики. Только описание «гротесковости» как некоего кода, способствующего порождению текста и определяющего рецепцию последнего, позволяет адекватно оценить и описать принцип амбивалентности, лежащий в его основании, и – уже на этой основе, строить модель гротеска как категории поэтики.
Концептуализация иллюзий – дело непродуктивное, но именно этим занята традиционная теория гротеска. Гораздо более продуктивным представляется изучение того, как эти иллюзии порождаются – этим, в конечном итоге, и занята теория концептуальной интеграции Фоконье–Тернера, позволяющая более адекватно представить логику и структуру гротескового образа.