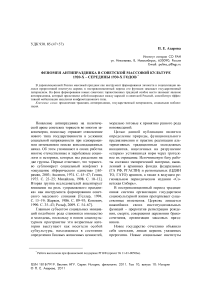Феномен антипраздника в советской массовой культуре 1920-х - середины 1930-х годов
Автор: Азарова Полина Евгеньевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 10 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В дореволюционной России массовый праздник как инструмент формирования личности и социализации являлся прерогативой института церкви; в постреволюционный период его функции замещает государственный патернализм. На фоне формирования новых советских торжественных традиций особое место занимает явление антипраздника, который представлял собой водораздел между царской и советской Россией, способствуя эффективной мобилизации населения конфронтационного типа.
Праздничная традиция, антипраздники, государственный патернализм, социальная мобилизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14737387
IDR: 14737387 | УДК: 930.
Текст научной статьи Феномен антипраздника в советской массовой культуре 1920-х - середины 1930-х годов
Появление антипраздника на политической арене советских торжеств во многом закономерно, поскольку отражает становление нового типа государственности в условиях социальной напряженности при одновременном интенсивном поиске консолидационных начал. Об этом упоминают в своих работах многие отечественные и зарубежные социологи и историки, которых мы разделили на две группы. Первые отмечают, что торжество сублимирует социальный конфликт в «ощущение эйфорического единства» [Абрамян, 2003; Аксенов, 1974. С. 45–47; Генин, 1975. С. 23–25; Михайлов, 1998. C. 10–13]. Вторая группа исследователей акцентирует внимание на роль «управляемого праздника» как инструмента формирования советского массового сознания [Геллер, 1994. С. 15–19; Жарков, 1986. С. 89–93; Конович, 1990. С. 35–43; Рольф, 2009. С. 54–67].
Главным субъектом социальных инициаций подобного рода становятся юношество и молодежь, поскольку в новом социокультурном пространстве эти возрастные категории выступают как носители особой субкультуры, находящиеся в состоянии определения базовых жизненных ценностей, морально готовые к принятию разного рода нововведений.
Целью данной публикации является определение природы, функционального предназначения и практик реализации альтернативных традиционным молодежных инициатив, нацеленных на разрушение «старых» устоявшихся норм через гротескное их отрицание. Источниковую базу работы составил эмпирический материал, выявленный в архивных фондах федеральных (ГА РФ, РГАСПИ) и региональных (ЦДНИ ТО, ГАТО) архивов, а также в ведущем региональном периодическом издании «Советская Сибирь».
В постреволюционный период традиционная система организации государством социокультурной жизни претерпевает существенные изменения. Церковь лишается важнейших своих институциональных функций – прерогатив регистрации рождения, смерти, совершения церемонии бракосочетания, организации массовых праздников.
Новое государство отчетливо объявило себя светским, лишая церковь указанных прерогатив. Новые социальные институты
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 11-01-00506а).
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 10: История © П. Е. Азарова, 2011
резко отличались от традиционных. Однако сформировавшаяся веками традиционная картина мира, включая как один из важнейших атрибутов праздничный компонент и культовую символику, не могла быть уничтожена директивными мерами. Во избежание мировоззренческих конфликтов в крайних формах требовалось пойти как на компромиссные шаги, так и искать нетрадиционные решения по внедрению в массовое сознание новой символики и обрядности.
Пришедший на смену «старым» советский праздник подготавливает массы к инновациям посредством радикальной подмены образов, в том числе самого места события. Так, регистрация брака, фактов рождения и смерти происходит в государственных органах (ЗАГС), являющихся хранителями информации обо всех демографических изменениях. Коль скоро отказ от исполнения данных обрядов не представлялся возможным, традиционные инициации наполняются новым содержанием. Так, вместо традиционных свадебных обрядов венчания появляется комсомольская («красная») свадьба. В начале 1920-х гг. празднование перенесено в торжественные залы предприятий («цеховые», «шахтерские» свадьбы). При этом место для молодоженов отводилось на сцене, гостям – в зале, сакральный характер торжества утрачивался и приобретал черты сценической постановки. В качестве оформления использовались занавес из красной материи и лозунги: «Да здравствует новый быт», «Да здравствует свадьба без попов», «Красная свадьба – составная часть коммунистического быта» 1 и др.
В рекомендациях по организации свадеб данного периода отмечается наличие традиционного компонента (название мероприятия – «венчание», наличие музыкального инструмента «гармони», использование как элемента торжества «плясок»), частично традиционного, но с элементом гротеска (присутствие красного «попа» – представителя губкома РКСМ) и инновационного элементов (начало торжества пением «Интернационала») 2.
В качестве мотивирующего действия на «красной» свадьбе выступают пожелания и подарки. В данный период пожелания «красных» свадеб связаны с акцентированным приобщением новой семьи и потомства к представителям коммунистических институтов: «Пусть ваши дети будут пионерами», «Следуйте примеру собравшихся, двигайтесь на встречу, вступайте в партию» 3 и др. Подарки и их элементы на торжествах также пропагандируют новые ценности: продуктовые (печеный пирог с советской символикой, крупяные наборы), просветительские (книжка «Вопросы быта»), формирующие позитивный образ государства (облигация выигрышного займа с пожеланием выиграть 100 тыс. руб.), политические (портреты коммунистических лидеров; для первой половины 1920-х гг. – Ленина, Троцкого) подарки 4.
С начала 1930-х гг. в периодической печати уже не придается значения «технологическим» описаниям торжеств, что свидетельствует о решении прагматической задачи – нормативной закрепленности новой свадебной обрядности. Однако к крупным торжествам печатаются написанные женщинами воспоминания, где сравниваются характеристики до- и постреволюционных свадеб. В них подчеркиваются преимущества последних торжеств, а именно: юридическое закрепление прав и обязанностей супругов и их наследников 5, возможность самостоятельного выбора партнеров, изменение роли женщины в браке (возможность участия в общественной жизни, приносить доход в семью) 6.
В то же время в первой половине 1920-х гг. свадебные празднования в городе и деревне проводились традиционно после сбора урожая – в конце лета и начале осени; но с середины 1920-х гг. городские свадьбы отмечаются и в декабре, смещаясь к празднованию нового года, а с 1930-х гг. празднование этого торжества становится круглогодичным. Деревенские свадьбы сохраняют традиционные периоды празднования и в 1930-х гг. 7
В качестве альтернативы традиционным православным крестинам выдвигаются «крас- ные» крестины. Церковное таинство трансформировано в собрания, которые проводит «коммунистический поп» и «крестный», называемый «шеф новорожденного», – представители комячейки. При сохранении традиционного названия торжества инновационным элементом советских крестин становятся красные знамена и мотивирующая лозунговая составляющая («Рабочая молодежь в ряды комсомола») 8. Цели мероприятия сохранены, но событие приобретает характер «обряда посвящения в коммунисты» с выбором имени для нового гражданина и молитвой на новый лад («Мы осеняем тебя не крестом и молитвой, наследием тьмы и рабства, а нашим красным знаменем борьбы и труда. Неси его дальше. Борись и работай под ним!») 9. Согласно христианской традиции имя, данное при крещении, было созвучно с именем покровительствующего святого. На советских крестинах давали имена, созвучные с именами и фамилиями коммунистических деятелей (Вилен, Ленина и др.). Впоследствии название мероприятия заменяется на «октябрины», «звездины» 10; в дальнейшем обозначенные ритуалы исчезают вовсе. Внедрение «красных» крестин в патриархальную деревню представляло собой более длительный процесс; здесь данный термин сохраняется для празднования факта регистрации рождения в органах ЗАГС 11.
В 1920-х гг., в зависимости от заслуг покойного и обстоятельств его смерти или гибели, похороны становятся частью социального действия. Такого рода событие принимает форму массового шествия с элементами митинга 12, где открытый гроб с телом умершего представлен на всеобщее обозрение. Похоронный ритуал приобретает новую смысловую нагрузку: похороны – это не только последний путь умершего, но и оценка его вклада в борьбу за социализм, что определяло формат пышности и массовости траурного действия. Таинство похорон перенесено из церкви на территорию светского государства: квартира, госпиталь, дом культуры, театр, отделение компартии. Вместо православного отпевания («трисвя- того») звучит торжественный «похоронный марш» 13. Проведение похорон с участием церкви подвергалось гонению, включалось в перечень осуждаемых поступков коммуниста 14. Тем не менее в деревне и в 1930-е гг. сохранялись традиционные правила проведения этого траурного события.
Новая социальная организация жизни коснулась не только порядка регистрации рождения, смерти и брака, но и ключевых христианских праздников Пасхи и Рождества. Здесь также использовалась технология подмены образов. Однако, в отличие от свадебных церемоний, эта категория вытесняется с пьедестала торжеств самым агрессивным образом.
Вместе с тем начало 1920-х гг. характеризуется двойственным отношением к данным мероприятиям. С одной стороны, прямого запрета на религиозные обряды не существовало, с другой – вводились альтернативные празднования «комсомольского» Рождества и Пасхи, сопровождаемые жесткой антирелигиозной пропагандой 15. Установки и ориентиры в лозунговых материалах апеллируют к достижениям Октябрьской революции – свободе верований, обновлению всего жизненного уклада, «заполнению духовных праздников коммунистическим содержанием» 16. На первый план выходит понятие «Рождество Октября», формирующее столь необычным путем позитивный образ советского государства.
Периодическая печать предлагает множество вариантов для празднования комсомольских квазиправославных торжеств, призывает к использованию разнообразных зрелищных форм, таких как вечера с проти-ворелигиозным содержанием, спектакли, концерты, факельные шествия, демонстрации, митинги, шествия с сожжением чучела «попа», изображения «церкви» 17. Большинство форм комбинировалось: факельное шествие заканчивалось митингом, собрания переходили в демонстрации.
Вторая половина 1920-х гг. характеризуется стремлением пропагандистской машины осуществить перенос эмоционального восприятия православных праздников на альтернативные советские торжества. В этот период Рождество и Пасху объединяют с наиболее близкими по временному отрезку праздниками и памятными датами нового календаря. Рождественский период (двадцатые числа декабря – начало января) приходится на период празднования Недели памяти вождей, совпадает с днями памяти начала Первой русской революции (20 декабря 1904 г.) и кровавого воскресенья (9 января 1905 г.), Неделей помощи сиротам и Новым годом 18. Новогодне-рождественский альянс 19 исчезает к 1929 г. 20: в этот год в день Рождества отмечается второй день индустриализации 21, а за Новым годом остается лишь функция календарной отчетности 22. При организации ежегодно перемещающейся даты Пасхи акценты переносятся на традиционные весенние работы («ради выживания перейти к трудовым субботникам»), 6 мая – День печати, первая неделя мая – Неделя леса, и на самый массовый праздник – 1 Мая.
Данный период содержит мотивирующие лозунги по повышению темпов учебнопроизводственной работы и качества марксистско-ленинского воспитания. Комвузы выделяют докладчиков, проводят фотовыставки, студенческие вечера 23. В социально ориентированном торжестве 1 Мая принимают участие все поколенческие и социально-профессиональные группы городского населения – дети, юношество, молодежь, женщины, воинские части, физкультурники, 24
пожарные и т. д.
На смену старым символам приходят новые: уже указанные выше «красные» свадьбы, «комсомольские» Рождество и Пасха, которые празднуются по новому календарному стилю, проходят под красными знаменами, с оркестром, противорождественски-ми и противопасхальными песнями и прямолинейными лозунговыми составляю- щими: «Рождество – против Рождества!», «Пасха – не праздник!» 25.
Центральной институциональной основой антирелигиозной пропаганды выступал Союз Воинствующих Безбожников (СВБ), разрабатывающий основные стратегии этого направленного действия. В качестве одного из инструментов квазипраздника использовался смех – в диапазоне от добродушного юмора до едкой сатиры. Смеховой компонент выступал здесь как средство борьбы с противником, способ сублимации молодежной активности путем осмеивания и уничтожения объекта критики. В процессе организации управляемого снижения влияния церкви в 1920-х гг. участникам комсомольских антиправославных торжеств рекомендовалось вносить в мероприятия много «юмора, здорового, неподдельного веселья, эффекта, краски» 26.
Во второй половине 1920-х гг. СВБ резко меняет тактику антирелигиозной пропаганды, не без оснований сочтя подобную агитацию неэффективной и «имеющей обратный эффект» 27. Основной акцент в работе переносится на беседы, диалоги, диспуты и т. д. 28 С целью вовлечения в дискуссию социальных групп верующих, находящихся в контрпозиции по отношению к новому государству, в праздничные или предпраздничные дни рекомендовалась постановка «живой газеты, агитсудов, которые следует строить главным образом на местном материале, разрабатывать самими участниками кружков клуба» 29. В рамках антирелигиозной пропаганды материалы для доказательной базы агитсудов разрабатывал СВБ, призывавший ориентироваться на «конкретные факты из окружающей нас современности, с которыми встречается крестьянин и рабочий; учитывать живые потребности людей, связывать с вопросами естествознания» 30.
В каждой комсомольской организации рекомендовалось создавать уголки «Безбожника» 31 с обязательной сатирической составляющей о комсомольцах, посещаю- щих церковь, о священнослужителях местной церкви. Размещать подобные стенные газеты рекомендовалось в наиболее посещаемых местах (столовой, клубе), форма изложения должна быть легкой стихотворной (частушки, фельетоны) 32.
Укрепили тело Шуры
Солнце, воздух и вода…
Перед силой физкультуры
«Сила божья» – ерунда! 33
Дед Мороз… А где Мороз-то?
Скрылся нынче где-то дед.
Сообщает даже РОСТа,
Что нигде мороза нет 34.
Антипраздник межвоенной эпохи был выстроен на манипулировании социальной напряженностью, опирался на конфронтационные установки. Намеренно создаваемая конфронтация преследовала цель альтернативной консолидации вокруг новой идеологии и символики. Поэтому при проведении антипраздника его активным субъектом становится молодежь, более восприимчивая к новациям, находящаяся в состоянии социализации. В то же время городская молодежь, в отличие от деревенской, была более организована. Тем не менее технологии новых торжеств постепенно внедрялись через молодежь и в сельский социум.
К середине 1930-х гг. антипраздники выполнили свое деструктивное предназначение: поставленные консолидационные задачи решены, вытеснение традиционных праздничных форм закончено. Такая «политика уничтожения» должна была способствовать полному поглощению старых традиций новыми. Однако разрушительное начало, служившее фундаментом построения нового, в итоге рождает эффект отторжения, что в дальнейшем сказалось на судьбе новых советских праздников, разделивших в конце ХХ в. судьбу породившей их идеократиче-ской системы.