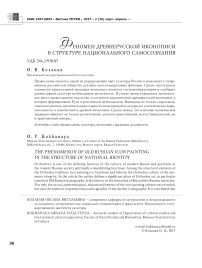Феномен древнерусской иконописи в структуре национального самосознания
Автор: Коханая О.В.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 2 (76), 2017 года.
Бесплатный доступ
Православие является одной из определяющих черт культуры России и выполняет в современном российском обществе духовно-консолидирующие функции. Среди структурных элементов православной традиции иконопись является системообразующим и сообщает православной культуре необходимую целостность. В статье автор определяет значительное место православного искусства, в частности канонической древнерусской иконописи, в истории формирования Руси и российской ментальности. Выявлены не только сакральная, гносеологическая, воспитательная сущность иконописной культуры, но и эстетическая выразительность и самобытность древней иконописи. Сделан вывод, что изучение иконописной традиции обретает не только религиозный, духовно-нравственный, искусствоведческий, но и практический интерес.
Православие, культура, иконопись, традиции, духовность
Короткий адрес: https://sciup.org/144161076
IDR: 144161076 | УДК: 246.3:930.85
Текст научной статьи Феномен древнерусской иконописи в структуре национального самосознания
Главным носителем содержания иконы является канон: в нём, как в специфической внутренней форме творческого процесса, хранятся обретённые в результате многовековой духовно-художественной практики православия основные принципы, приёмы и особенности художественного языка иконописи. Своё содержание православная иконопись черпает из Священного Писания, из деяний Священных Соборов, из предания и истории, из отеческих книг и житейников; художественные образцы – из Иконописных Подлинников.
Этим объясняется такая концентрация художественно-эстетических средств в иконе, что делает её живописным произведением, где глубокое духовное содержание передаётся только художественными средствами – цветом, композицией, линией, формой. Задача иконы не просто рассказать о событиях давних времён, но и возбудить в зрителе сопереживание, сострадание, умиление, восхищение и т.п., желание подражать изображённым персонажам. Этим объясняется нравственная функция иконы, а именно – формирование и развитие в созерцающем чувств любви и сострадания, смягчение душ человеческих, погрязших и очерствевших в бытовой суете. Поэтому икона в православном сознании выступает носителем главного принципа христианства – всеобъемлющей любви к людям как следствия любви Бога к ним и людей к Богу [1, с. 178].
В данном контексте хочется отметить, что православие и православное искусство сыграли в истории формирования Руси, российской ментальности немаловажную роль [2, с. 39–40]. Общая вера в Единого Бога, пришедшая на смену язычеству и поклонению многим богам, способствовала объединению разрозненных свободолюбивых княжеств. Церковь же, в свою очередь, призвала живописное искусство на службу с целью возвысить с его помощью народ до тех высоких идей, которые едва доступны уму человеческому. Главные цели иконописания – содействовать живому проповедованию предметов веры и Священных событий, насаждать и углублять их в сердце человеческом.
В течение периода существования православной Руси икона занимала особое место в жизни человека, начиная от его рождения до смерти. При рождении малыша писали образ тезоименитого ему святого. При намерении молодых обвенчаться родители или посажёный отец благословляли молодых образами, с которыми они отправлялись в церковь на бракосочетание, а затем с иконами же сопровождались в дом, где также их встречали иконным образом отец, мать или родственники, с хлебом и солью, символами благословенного изобилия в доме. В случае смерти человека у изголовья его зажигается свеча перед образом, при выносе на отпевание и на кладбище предшествует ему иконописный образ. Заветные иконы рода передавались обычно во владение влияла на духовную и государственную старшему в роде, по наследству, становясь фамильной святыней. Такая икона могла быть посредницей в спорах, свидетельницей обетов и условий. Исконным обычаем на Руси было осенять иконами городские ворота, в том числе башни и бойницы, от этих священных образов последние перенимали своё название: Спасские, Троицкие, Никольские ворота. В каждом полку, в роте, на корабле была своя икона, повсюду их сопровождающая [11, с. 29]. Иконами благословляли великих князей и царей. В жизни государственной и гражданской иконным образам было дано значение дипломатическое и юридическое. Иногда они принимались в поручители и свидетели мирных договоров и при разрешении споров. Также при размежевании земель: в старину с иконой ходили по межам [11, с. 30, 83]. Таким образом, догматическое отношение святых икон к православию, к государству, деревне и дому проявляется в непосредственном участии их в народной жизни. Вместе с тем очевидно влияние святых образов на дух народа, на гражданские, военные, общественные и семейные дела. Иконопись не могла играть такую серьёзную роль в различных сферах жизни без веры и благочестия, сближающих «поклоняющегося с поклоняемым, земное с небесным [8, с. 111]».
Однако грустен тот факт, что многие художники-бытописатели XIX – начала XX века, призванные отразить глубинную сущность русского народа и его жизни, вместо того, чтобы использовать свой талант для воспевания религиозной, нравственной стороны души народной, которая сыграла серьёзную роль в формировании исторического величия России, жизнь народа, занимались развенчиванием, обличением и унижением Русской церкви [6, с. 194]. Сакральная, гносеологическая, воспитательная, дающая оптимистический заряд и веру в божественную поддержку и помощь, укрепляющая дух слабых и обездоленных, сдерживающая грубость нравов сторона религиозной жизни ими забыта, унижена или высмеяна. Напротив, пышно, порой превосходно представлены изуверство, фанатизм, нетерпимость, суеверие и разнообразная деградация и профанация веры и церковности (например, «Утро стрелецкой казни» В. И. Сурикова, «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» В. М. Максимова, «Никита Пустосвят. Спор о вере» В. Г. Перова, «Крестный ход в Курской губернии» И. Е. Репина).
Другой важный пример – отношение к монастырям. Кажется, что кроме томящихся инокинь (Н. С. Матвеев), желания вкусно поесть и заигрывания архимандрита с купчихой (А. И. Корзухин «В монастырской гостинице»), то есть тоски, уныния и разврата, больше и нет там ничего. При этом к святыне, к подвижникам и их влиянию на совесть и жизнь многих миллионов людей у отечественных художников интерес почти отсутствует. Надо заметить, что наши художники писали богомольцев и странников («Странник» В. Г. Перова), однако подчас на их картинах герои выглядят как пережитки прошлого, обречённые на смерть приговором некоей «высшей» культуры [5, с. 165–168]. Народ, высмеивающий своё духовное прошлое, не берегущий свои корни, не думающий о своём национальном и духовном будущем, слаб, беспомощен и рискует провалиться в пропасть, потерять свою самобытность и право на самоопределение [4, с. 316]. Что и случилось век назад, в 1917 году, и закончилось октябрьским переворотом, который сыграл роковую роль как в духовности народной, которая окормлялась на тот момент более девяти веков (с 988 года) православной верой, так и в жизнедеятельности и самом существовании Российской православной церкви.
Сегодня трудно представить, что к середине XIX века Россия практически не осознавала своего главного культурного наследия, по крайней мере – в глазах Запада, – древней иконописи. И даже когда просвещённое общество выказало огромный интерес к русской культуре, средневековая каноническая иконопись оставалась в полном забвении. И даже в век Пушкина и Достоевского, который справедливо называют «золотым» веком русской культуры, шедевры русской иконописи – Андрея Рублёва и Дионисия – «… долгое время оставались под слоем тёмной олифы и записей, закрывавших подлинный лик иконы. Да и художественные вкусы эпохи [10, с. 32]» были весьма далеки от того, чтобы оценить по достоинству красоту древних образов. Конечно, следует отметить, что икона в России никогда не исчезала из храмов и домов, будучи предметом православного культа и неотъемлемой частью народного благочестия, но подлинная её красота была сокрыта от глаз зрителя. Как отмечает известный специалист в области русской иконописи, искусствовед, культуролог И. К. Языкова: «в церковном искусстве в это время процветал академизм, храмы украшались слащавой религиозной живописью, ориентирующейся на западные образцы, иконостасы строились по типу триумфальных арок с образами, написан- ными в живописной манере, вставленными в резные рамы [12, с. 42]». Старинные, написанные по канону иконы попадались редко, при этом большинство из них считались немодными, написанными примитивно и неумело. Часто они были закрыты окладами, которые подчас оценивались намного дороже, нежели сама каноническая иконопись. В продававшихся же в огромном количестве на ярмарках иконы «деревенских богомазов», по традиции писавших свои незатейливые с художественной точки зрения творения по древним каноническим образцам, непросто было разглядеть отзвуки величайших византийских и древнерусских традиций. Более того, среди просвещённой интеллигенции бытовало мнение, что иконы, выполненные по канону, являются старообрядческими, устаревшими идеологически, не соответствующими новшествам в области церковного искусства. В государственной же Русской православной церкви с времён Петра Первого насаждалась ориентация на так называемое высокое искусство, основанное на западных образцах, признанных классическими [8, с. 22].
Зная только имя Андрея Рублёва как гениального иконописца, как некое знамя иконы традиционной, соотечественники вовсе не знали выдающихся иконописцев, ныне снискавших мировую славу, таких, например, как Дионисий, Феофан Грек. «Чёрные доски», а именно так называли старинные иконы, которые так и выглядели, так как были покрыты олифой, имеющей особенность темнеть со временем.
Когда в 1904 году известный русский реставратор и иконописец Василий Гурьянов расчистил маленький кусочек где-то на одежде изображённого на иконе об- раза, неожиданно из-под верхнего почерневшего слоя олифы выглянули нежнейшие голубые цвета и золото облачений святых. Желающих увидеть настоящий иконный свет оказалось так много, что монахи Троице-Сергиевой Лавры так ис- пугались, что не дали реставратору закончить раскрытие иконы и от любопытных глаз закрыли её окладом. В. Гурьянов отреставрировал её только после Октябрьской революции – в 1919 году [13].
В начале ХХ века в России, в результате революционных событий 1905–1907 годов, старообрядцы получили право возводить собственные храмы, что потребовало большого количества икон для их убранства. При этом приверженцы старой веры обладали значительными иконными собраниями и имели своих реставраторов и иконописцев, умевших писать, поновлять иконы, удалять с них слои предыдущих поновлений и потемневшую олифу, раскрывая первоначальную живопись.
Как ни странно, бурно начавшийся в первых годах ХХ века процесс реставрации иконописи, открытия (точнее сказать, раскрытия) традиционной православной иконы как самобытного, единственного в своём роде русского явления культуры достиг серьёзного развития только при советской власти. Парадокс состоит ещё и в том, что ХХ век, начавшийся с высочайшего духовного и культурного подъёма, в том числе – с открытия православной иконы, что явилось научной, реставрационной сенсацией мирового масштаба, очень быстро рухнул с этой вершины в богоборчество, иконоборчество, которыми отметился страшный период гонений на православную церковь.
Высоко оценил сенсационное открытие древнерусской иконы выдающийся французский художник, один из основателей фовизма Анри Матисс, посетивший Россию в начале ХХ века. Русские коллекционеры Сергей Иванович Щукин и Илья Семёнович Остроухов показали ему шедевры своих коллекций – отрестав- рированные иконы, и он резюмировал, что все искания европейских художников, всё творчество авангарда [3, с. 31], как оказалось, уже было в древней канонической иконописи. Сенсационное открытие повлияло не только на церковных, но и на светских художников-авангардистов. Например, на Казимира Малевича, Наталью Гончарову и других художников: влияние традиции древнерусской иконы на их творчество несомненно. Отголоски иконописного подхода также видны и в светском, революционном искусстве [9, с. 48]. Правда, на революционно-инновационных рубежах советское искусство недолго задержалось, довольно быстро победил метод социалистического реализма, но первые художники-авангардисты, поддержавшие революцию, во многом опирались на икону: вспомним, плакаты «Окна сатиры РОСТА», созданные в 1919–1921 годах советскими художниками и поэтами, работавшими в системе Российского телеграфного агентства (РОСТА) [13].
Таким образом, в начале ХХ века отношение к древнерусской иконописи кардинально меняется. На выставке древнерусского искусства 1913 года в Москве были представлены раскрытые реставраторами иконы. Неожиданные результаты раскрытых «звенящих» цветом некогда «чёрных досок» вызвали всеобщее восхищение.
Посетители выставки увидели миниатюрные иконы «строгановской школы» с их сдержанным колоритом, строящимся, главным образом, на оттенках оливковой гаммы; канонические иконы XV–XVI веков, включая иконы новгородские, с их лаконичной выразительностью линий, сиянием широких и ярких цветовых плоскостей (например, был представлен поясной «Илия Пророк» XV века из частного собрания И. С. Остроухова, ныне находящийся в Третьяковской галерее). Открытие древней русской иконы было необычайно своевременно. Оно совпало с новыми тенденциями, буквально революционными изменениями в культуре начала ХХ века, определёнными рождением новых художественных направлений авангардного искусства: фовистов во главе с Анри Матиссом, супрематизма Казимира Малевича, абстракционизма Василия Кандинского, русских художников объединения «Мир искусства» и других.
Если прежде древние русские иконы были интересны коллекционерам лишь как артефакты икон национальной истории, то с начала ХХ века коллекционирование приобрело новый характер и теперь уже было продиктовано эстетическими пристрастиями, художественными вкусами собирателей. Появляются коллекционеры нового типа, оценивающие, прежде всего, эстетическое своеобразие: красоту, яркость, цветовую палитру, художественную выразительность древней канонической иконы.
Описанный поворот имел большое значение для сохранения и развития русской иконописи, обусловил осознание её самобытности, уникальности и достойного места в истории не только отечественной, но и мировой культуры. Вероятно, именно огромный художественный, эстетический интерес к иконе со стороны частных коллекционеров, а также художников с мировым именем сыграл поистине судьбоносную, спасительную роль в судьбе русской иконы в страшные годы революционной и постреволюционной иконоборческой и богоборческой России. Для большевиков уже было очевидно, что икона представляет не только духовно-нравственную и культурно-историческую ценность, является ценнейшим культурным сокровищем России, но имеет и вполне реальную денежную ценность.
Весь XX век в мире только возрастал интерес к православной культуре. Наряду с реставрацией и научным осмыслением древней иконописи, пробуждался интерес к современной иконописной практике, продолжающей древние традиции. В нашей стране это особенно проявилось после празднования тысячелетия Крещения Руси в 1988 году, «ставшего для России вторым крещением, рубежом, обозначившим не только перестройку взаимоотношений Церкви и государства, но изменившим вектор развития российской культуры [12, с. 20]».
Возрождение церкви дало импульс для возрождения церковного искусства. Как отмечает И. К. Языкова в своём научном исследовании «Икона в духовной культуре России XX века»: «Здесь, несомненно, напрашивается параллель с периодом начала XX века, когда также наблюдался взрыв интереса к древней иконописи и надежды на возрождение современного церковного искусства. С позиций нового тысячелетия очевидно, что о возрождении иконы говорить сегодня рано, можно только с уверенностью констатировать её возвращение в культурную жизнь России. А это уже немало для восстановления духовных традиций, разру- шавшихся в стране в течение многих десятилетий [12, с. 20]».
Возрождение иконы как самобытного русского культурного феномена неразрывно связано с духовным и нравственным возрождением Православной церкви в России. И очевиден тот факт, что, несмотря на тяжелейшие времена гонений, богоборчества и иконоборчества в России в XХ веке, икона как уникальное явление отечественной культуры не только сумела сохраниться, но и развивается в новых условиях. Изучение древнерусской иконописи, иконописных школ и традиций прошедшего столетия приобретает не только религиозный, духовно-нравственный, искусствоведческий, но и практический интерес.
Список литературы Феномен древнерусской иконописи в структуре национального самосознания
- Анатолий (Мартыновский) Об иконописании // Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв.: антология / сост., общ. ред. и предисл., с. 7-33, Н. К. Гаврюшина. Москва: Прогресс: Культура, 1993. С. 71-100.
- Аронов А. А. К вопросу о ментальности отечественной культуры: развитие рывками // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 1 (63). С. 38-45.
- Воеводина Л. Н. Философия культуры в эпоху постсовременности // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 3 (59). С. 29-35.
- Головин Ю. А., Коханая О. Е. Критика либеральной идеологии как концепта в парадигме медиаобразования // Вопросы теории и практики журналистики. 2016. Т. 5. № 2. С. 314-323.
- Кожсевников В. О задачах русской живописи // Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв.: антология / сост., общ. ред. и предисл., с. 7-33, Н. К. Гаврюшина. Москва: Прогресс: Культура, 1993. С. 164-172.