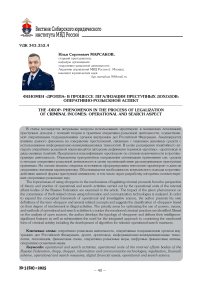Феномен «дроппа» в процессе легализации преступных доходов: оперативно-розыскной аспект
Автор: Марсаков И.С.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 3 (60), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются актуальные вопросы использования «дропперов» в механизмах легализации преступных доходов с позиций теории и практики оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой оперативными подразделениями органов внутренних дел Российской Федерации. Анализируется влияние данного феномена на совершение преступлений, связанных с хищением денежных средств с использованием информационно-коммуникационных технологий. В целях расширения понятийного аппарата оперативно-розыскной науки вводятся авторские дефиниции терминов «дроппер», «дропповод» и ряда смежных понятий. Предлагается классификация «дропперов» по степени вовлеченности в противоправную деятельность. Определены приоритетные направления оптимизации применения сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности в целях противодействия рассматриваемым преступным практикам. На основе анализа открытых источников сформулирована типология «дропперов» и дана их оперативно значимая характеристика. Обосновывается необходимость комплексного подхода к противодействию данной формы преступной активности, в том числе через разработку алгоритма соответствующих оперативно-розыскных мер.
Оперативно-розыскная деятельность, оперативные подразделения органов внутренних дел Российской Федерации, дропп, дропповод, информационно-коммуникационные технологии, легализация, финансовая схема, оперативно-розыскные меры, цифровые финансовые активы, оперативно-розыскная наука
Короткий адрес: https://sciup.org/140312405
IDR: 140312405 | УДК: 343.352.4
Текст научной статьи Феномен «дроппа» в процессе легализации преступных доходов: оперативно-розыскной аспект
В условиях стремительной цифровизации общественных отношений и трансформации преступной деятельности с выраженным смещением в виртуальное пространство наблюдается устойчивая тенденция использования злоумышленниками информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для анонимизации противоправных финансовых схем. Одним из ключевых инструментов в указанных механизмах становится привлечение так называемых «дроп-перов», через которых осуществляется вывод денежных средств, полученных преступным путем. Одной из наиболее эффективных стратегий противоправной реализации подобных операций является конвертация фиатных денежных средств в цифровые финансовые активы (далее – ЦФА), что существенно усложняет процессы идентификации, отслеживания и правовой квалификации незаконных действий для оперативных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации (далее – ОВД) [1, с. 125].
Несмотря на принимаемые законодателем меры1, направленные на принятие и расширение действия нормативных правовых актов, регулирующих обращение ЦФА, использование ИКТ, а также введение уголовной ответственности за противоправные действия, совершаемые «дропперами», в настоящее время отсутствуют данные о фактическом применении соответствующих норм как в административной, так и в уголовно-правовой практике. Указанное обстоятельство указывает на необходимость дальнейшего совершенствования правоприменительных механизмов, разработки действенных алгоритмов для оперативных подразделений ОВД, а также нормативного регулирования отдельных аспектов цифровизации общественных отношений.
Отметим, что данная проблематика остается недостаточно разработанной в отечественной научной литературе. В существующих публикациях тема участия физических лиц – «дропперов» – в качестве промежуточного звена в схемах, направленных на обналичивание, трансграничное перемещение или легализацию доходов, полученных преступным путем, освещается фрагментарно и преимущественно в уголовно-правовом, криминологическом, криминалистическом или уголовно-процессуальном аспектах [напр.: 2-4], но практически не рассматривается в рамках теории оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), что, на наш взгляд, представляет собой существенный научно-прикладной пробел.
Отсутствие комплексной научной разработки данной проблематики в оперативно-розыскной науке, на наш взгляд, существенно снижает эффективность правоприменительной практики в соответствующей сфере. Недостаток целостного научного осмысления указанного феномена препятствует формированию системного понятийного аппарата, а также разработке эффективных оперативно-розыскных мер противодействия соответствующим преступным проявлениям, адекватных современным вызовам цифровой экономики и транснациональной преступности. Указанный научно-прикладной пробел подчеркивается и проанализированными взаимосвязанными особенности современных противоправных процессов с использованием «дропперов», по нашему мнению, свидетельствующими о наличии фундаментальной угрозы национальной2, в том числе экономической, безопасности3.
Кроме того, указанные вызовы и угрозы представляют не только практический инте- рес для должностных лиц, реализующих функции по обеспечению безопасности в пределах своей компетенции, но и обладают научно-теоретической значимостью для исследователей, специализирующихся на разработке теоретико-прикладных основ, включая формулирование гипотез, выявление специфических признаков, построение концептуальных моделей, подготовку методических рекомендаций, а также выработку структурированных и научно обоснованных предложений и алгоритмов противодействия противоправным деяниям в соответствующих условиях.
В рамках настоящего исследования, опирающихся в том числе на результаты анкетирования руководителей и сотрудников оперативных подразделений территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях, занимающихся противодействием преступлениям, совершаемым с использованием ИКТ, предпринята попытка сместить акцент на необходимость системного осмысления феномена «дроппа» как инструмента анонимного финансового посредничества, его идентификации и оперативно-розыскной классификации.
Следственно-судебная практика по рассматриваемым материалам и уголовным делам свидетельствует:
– о том, что особая общественная опасность исследуемого явления – «дроппера» – заключается не только в посягательстве на имущественные интересы граждан и юридических лиц, что, безусловно, имеет существенное значение, но и в возрастающем риске затрагивания интересов органов государственной власти, в компетенцию которых входит сбор, аккумулирование, распределение и использование бюджетных средств, обеспечивающих стабильность социально-экономической обстановки в стране;
– о многообразии способов реализации противоправных схем, использующих «дроп-па» как ключевое звено в преступных финансовых операциях;
– о широком применении ИКТ не только на стадии непосредственного совершения преступлений, но и в процессе вывода денежных средств, полученных противоправным путем, и их последующей легализации как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
Указанные выводы подтверждаются результатами анкетирования руководителей и сотрудников оперативных подразделений территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях.
На основании анализа совокупности эмпирических и теоретических источников, включая результаты опроса респондентов, материалы следственно-судебной практики, а также научные подходы, сформулированные в рамках исследования указанной проблематики [5-7], отражающей широкий спектр преступлений с использованием ИКТ в целях легализации доходов, полученных преступным путем, представляется обоснованным вывод о том, что ключевым звеном в системе противоправной деятельности, приобретающим в современных условиях определяющее значение в процессах вывода и сокрытия преступных активов, является так называемый «дроп-пер», под которым понимается физическое лицо, осознанно либо по неосторожности вовлеченное в преступную схему и задействованное в качестве промежуточного звена для перевода, обналичивания либо трансграничного перемещения денежных средств, ЦФА, полученных преступным путем, с использованием его персональных данных, банковских счетов или иных финансовых инструментов.
Анализ следственно-судебной практики свидетельствует, что «дроппер», как правило, выступает соучастником преступления, легализации преступных доходов или иных финансовых махинаций, фактически выполняя роль подставного лица в незаконных схемах. Кроме того, применение «дропперами» ИКТ позволяет осуществлять завершающие этапы противоправной деятельности – операции по легализации преступных доходов – с высокой скоростью и значительной степенью анонимности, что значительно осложняет противодействие данным преступлениям.
Аналитические материалы МВД России1, а также данные из иных открытых источников органов государственной власти указывают на то, что особую угрозу для национальной безопасности и серьезный вызов для оперативных подразделений ОВД представляет ситуация, при которой противоправная деятельность носит системный характер и осуществляется организованными преступными группами (преступными сообществами) с постоянным привлечением «дропперов» и «дропповодов».
Под «дропповодами» следует понимать физических лиц, осуществляющих создание, координацию и управление взаимосвязанными элементами теневой инфраструктуры (сетей «дропперов», технических средств, каналов связи, цифровых платформ и иных ресурсов), обеспечивающей перевод, конвертацию либо обналичивание денежных средств, ЦФА, с целью их анонимизации и затруднения отслеживания финансовых потоков, полученных противоправным путем.
Как правило, лидеры организованных преступных групп (преступных сообществ) стремятся минимизировать собственную вовлеченность в реализацию противоправных схем, избегая прямого участия, способного привести к их идентификации либо установлению связи с конкретными преступлениями. В этой связи именно «дроппер», «дропповод» выступают ведущими элементами в процессе исполнения противоправной деятельности.
Следственно-судебная практика отражает наиболее распространенные формы противоправной деятельности с участием «дроп-перов» и «дропповодов», к числу которых относятся дистанционное мошенничество, легализация доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств, функционирование финансовых пирамид и онлайн-казино, хищение бюджетных средств, а также иные преступления, обладающие сходными способами организации и маскировки финансовых потоков [8, с. 181].
Масштабность указанных противоправных схем с привлечением соответствующих соучастников обуславливает необходимость выделения данного сегмента как зоны повышенной криминальной активности. Так, годовой оборот денежных средств, проходящих через онлайн-казино, составляет не менее 350 млрд руб.; доходы от незаконного оборота наркотических и психотропных веществ – не менее 1 трлн руб.; ущерб в бюджетной сфере оценивается в 112 млрд руб., а совокупный объем теневого денежного оборота превышает 5 трлн руб., что за последние четыре года увеличилось в полтора раза и почти в пять раз превышает среднемировые показатели2.
Учитывая изложенное, обоснованным представляется вывод о том, что практически любое преступление, преследующее цель извлечения имущественной выгоды, сопровождается действиями, направленными на легализацию преступных доходов с использованием «дроппов», «дропповодов». Это обусловлено тем, что подобный механизм стал структурно необходимым элементом преступной финансовой инфраструктуры, позволяющим организованным преступным группам (преступным сообществам) обходить существующие механизмы контроля, включая системы финансового мониторинга и банковского комплаенса. Основная сложность противодействия заключается в сборе, получении, анализе и правовой оценке оперативно значимой информации, что дополнительно осложняется размытостью границ между исполнением поручения, неосознанным вовлечением и соучастием в противоправной финансовой деятельности.
На наш взгляд, «дроппов» целесообразно рассматривать с позиции иерархической структуры организованных преступных групп
(преступных сообществ), что позволяет провести их оперативно-розыскную классификацию в зависимости от типа функционального использования:
«обнальщики» – лица, осуществляющие обналичивание денежных средств, как правило, через банкоматы или иные технические средства, с целью последующего их физического изъятия из формальной финансовой системы. В цифровом контексте это могут быть также участники, использующие криптовалютные банкоматы (крипотамы) или анонимные цифровые платформы для перевода ЦФА в наличные;
«транзитники» обеспечивают усложнение финансового следа за счет удлинения или фрагментации транзакционных цепочек, что затрудняет отслеживание происхождения средств. Данная деятельность может включать как последовательные переводы между счетами и юрисдикциями в банковской системе, так и использование блокчейн-мик-шеров (mixers), протоколов анонимизации и децентрализованных платформ в цифровой сфере;
«заливщики» занимаются внесением похищенных денежных средств на банковские счета, преимущественно с использованием платежных карт или электронных кошельков. В цифровом измерении аналогичную функцию выполняют субъекты, зачисляющие украденные или нелегально полученные ЦФА на биржевые кошельки, адреса криптокошельков или иные цифровые хранилища.
При этом отдельные организованные преступные группы (преступные сообщества) используют дроппов-универсалов, которые обналичивают похищенные денежные средства в банкоматах и передают их «дроппово-ду» (руководителю «дроппов»). Как правило, «дропповод» курирует три дополнительных группы «дроппов»:
-
– первая покупает криптовалюту;
-
– вторая вносит средства на поддельные платежные карты;
-
– третья перевозит крупные суммы наличных в другой регион страны, где осуществляется взнос средств на карту или покупка ЦФА.
Опираясь на результаты проведенного исследования, в том числе на сведения, предоставленные кредитно-финансовыми организациями, в которых функционируют специализированные подразделения по противодействию кибермошенничеству, следует отметить, что в таких структурах осуществляется комплексное изучение феномена «дропперов»: анализируются поведенческие детерминанты указанных лиц, формируются их типовые психологико-социальные портреты, а также выявляются и систематизируются актуальные схемы обналичивания денежных средств с использованием «дропперов».
Согласно обобщенным результатам проведенного анализа наиболее типичным «дроппером» является молодой мужчина, преимущественно проживающий в городах федерального значения, а также в крупных региональных центрах Поволжья, Урала и Сибири. Более 85% от общего числа составляют граждане Российской Федерации, на втором месте – лица, прибывшие из Таджикистана и Узбекистана, на третьем – граждане Украины.
В последние годы наблюдается значительный рост противоправных схем, связанных с использованием банковских инструментов в целях хищения и отмывания денежных средств. Одним из ключевых факторов, способствующих распространению данного вида преступной деятельности, является сравнительно низкий порог входа и доступность необходимых ресурсов. Анализ содержания интернет-площадок выявил широкое распространение рекламных объявлений, предлагающих потенциальным участникам выбрать подходящий вид нелегального «трудоустройства» с минимальными временными и финансовыми затратами.
Так, заинтересованное лицо может самостоятельно оформить несколько банковских карт в различных кредитных организациях и передать их «дропперу» для последующего использования в схемах обналичивания похищенных средств. Кроме того, существует схема, при которой документы и карты высылаются почтой, что позволяет обойти необходимость личного оформления. Обнали- чивание средств в данном случае происходит под контролем опытного «дропповода».
Проведенный анализ экспертных мнений и публично доступных материалов позволил предпринять попытку визуализировать возможную схему функционирования организованной преступной группы (преступного сообщества), представленную на рисунке.
Организационная структура сервисов по обналичиванию похищенных денежных средств

С небольшими вложениями и наработанной репутацией на интренет-площадках «дропп» или «дропповод» имеет шанс выйти на уровень владельца сервиса по обналичиванию (обнал-сервиса). На теневых форумах «дроппам» оказывается консультативная поддержка, распространяются скрипты общения с ОВД. Зачастую сообщники задержанных «дропповодов» нанимают своим «коллегам» дорогостоящих адвокатов.
По оценке кредитно-финансовых учреждений, на сегодняшний день стоимость банковских карт на черном рынке варьируется от 6 до 100 тыс. руб. в зависимости от целей использования и банка-эмитента. По их данным, 6,3% «дроппов» имеют более 50 карт, почти 53% – от 10 до 50 банковских карт. Максимально выявленное количество карт у одного «дроппа» – 16081. При этом все чаще вывод похищенных средств осуществляется в сотрудничестве с площадками даркнета.
Так, мошеннический call-центр в г. Бердянске сотрудничал с несколькими теневыми сервисами,
находящимися на торговых площадках DarkMoney и Dublikat. Вывод средств был организован следующим образом:
во время разговора с жертвой мошенники заказывали через обнал-сервис подходящую карту «дроппа» с необходимым лимитом для вывода средств;
закрепленный за данным call-центром персональный менеджер сервиса в режиме онлайн предоставлял данные и ждал зачисления похищенных у клиента средств;
затем денежные средства обналичивались сотрудниками сервиса. Комиссию в 15-20% забирал сервис, а оставшиеся денежные средства переводились на подконтрольные организаторам call-центра криптокошельки по курсу на текущую дату.
Это типовой способ вывода похищенных денежных средств, характерный для всей индустрии отмывания доходов, полученных преступным путем.
Стремительный рост социальной инженерии породил высокий спрос на услуги обналичивания похищенных денежных средств, что сказалось на увеличении количества дропп-сервисов и самих «дроппов»2.
Обобщив результаты анализа публичной информации, экспертных мнений и открытых научных взглядов, мы предприняли попытку сформулировать научно обоснованное, практико-ориентированное авторское видение оперативно-розыскных мер по установлению физических лиц – «дропперов», осуществляю- щих транзит фиатных денежных средств с последующим их переводом в ЦФА. Разработанные меры учитывают современные формы противоправных финансовых операций, совершаемых с использованием ИКТ, и направлены на повышение эффективности сотрудников оперативных подразделений ОВД, противодействующих данному явлению.
На первом этапе алгоритма осуществляется сбор, обработка и агрегация данных, включающих информацию о финансовой активности (частые транзитные банковские операции, переводы на счета криптовалютных обменников и P2P-платформ), а также анализ интернет-следов – логов посещения сайтов, связанных с ЦФА, активности в мессенджерах, IP- и IMEI-идентификаторов. Дополнительно исследуются мобильные и социальные следы: геолокация, перечень установленных приложений, контактные связи.
На втором этапе проводится идентификация подозрительной активности посредством автоматизированного скоринга транзакций по частоте, объему и продолжительности хранения средств, а также поведенческого анализа, направленного на выявление типичных моделей «дропперов», включая резкое увеличение транзакционной активности у лиц без постоянного источника дохода. Важную роль на данном этапе играет блокчейн-аналитика, позволяющая отслеживать транзакции после конвертации фиатных средств в ЦФА.
На третьем этапе формируется профиль «дроппера» путем сопоставления цифровых идентификаторов (IP, MAC, e-mail) с банковскими и криптосчетами, формализуются схемы транзита денежных средств, включая их обналичивание, а также производится ранжирование субъектов по степени риска.
Четвертый этап включает проведение оперативно-розыскных мероприятий в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в рамках которых необходимо установить место работы и проживания, изъять электронные носители, зафиксировать взаимодействия с другими участниками противоправной финансовой схемы. Интеграция полученных данных способствует установлению иерархии участников противоправной деятельности.
Пятый этап направлен на формирование доказательной базы: осуществляется документальное закрепление фактов незаконных финансовых операций, их юридическая квалификация в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации, а также назначение соответствующих экспертиз [9, с. 69].
На наш взгляд, реализация представленного алгоритма позволяет установить участие физического лица в транзите денежных средств через ЦФА, обосновать связь между банковскими и криптовалютными транзакциями, зафиксировать противоправную деятельность с оперативно-розыскной и процессуальной точек зрения и повысить общую эффективность оперативных подразделений ОВД.