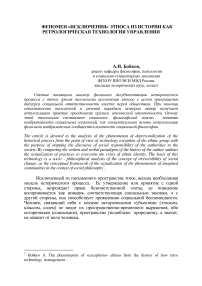Феномен «исключения» этноса из истории как ретрологическая технология управления
Автор: Бобков А.И.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Социально-гуманитарные проблемы деятельности ОВД
Статья в выпуске: 3 (62), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу феномена десубъективации исторического процесса с точки зрения технологии исключения этноса с целью прекращения дискурса социальной ответственности власти перед обществом. При помощи сопоставления письменной и речевой парадигм истории автор намечает актуализацию практик преодоления кризиса этнической идентичности. Основу этой технологии составляет социально- философский анализ понятия необратимости социальных изменений, как концептуальная основа актуализации феномена воображаемых сообществ в контексте социальной философии.
Короткий адрес: https://sciup.org/14335548
IDR: 14335548
Текст научной статьи Феномен «исключения» этноса из истории как ретрологическая технология управления
The article is devoted to the analysis of the phenomenon of depersonalization of the historical process from the point of view of technology exception of the ethnic group with the purpose of stopping the discourse of social responsibility of the authorities to the society. By comparing the written and verbal paradigms of the history of the author outlines the actualization of practices to overcome the crisis of ethnic identity. The basis of this technology is a socio - philosophical analysis of the concept of irreversibility of social change, as the conceptual framework of the actualization of the phenomenon of imagined communities in the context of social philosophy .
Исключенный из письменного пространства этнос, весьма необходимая модель исторического процесса. Ее утверждение или принятие с одной стороны, возрождает права безответственной элиты, ее поведение воспринимается как новация, соответствующая социальным законам, а с другой стороны, она способствует проявлению социальной беспомощности. Человек, связавший себя с некими историческими субъектами (этносом, классом, слоем) не видит их пространственно-временного выражения, ибо историческое (социальное), пространство уподоблено природному, а значит, не зависит от воли человека..
* Bobkov A. The phenomenon of «exceptions» ethnos from the history of how retro technology management .
Исключенный из письменного пространства этнос, весьма необходимая модель исторического процесса. Ее утверждение или принятие с одной стороны, возрождает права безответственной элиты, ее поведение воспринимается как новация, соответствующая социальным законам, а с другой стороны, она способствует проявлению социальной беспомощности. Человек, связавший себя с некими историческими субъектами (этносом, классом, слоем) не видит их пространственно-временного выражения, ибо историческое (социальное), пространство уподоблено природному, а значит, не зависит от воли человека.
Уничтожение самовольного коллектива на локальном пространстве истории, выступает таким образом, что так называемые коллективные представления и опыт их создающий признаются отсталыми (маргинальными) практиками, ведущими к деградации человеческой личности, только сейчас отвоеванной у безликой социальной истории. Письменная история сначала отвоевала элиту, а потом у элиты отвоевала личность своей волей, а не коллективными представлениями, творящую историю. Естественно, что при таком завоевании длительность исторического времени заменена краткосрочностью и историк стремится, как можно быстрее, раздробить долгосрочные исторические процессы, ведущие к актуализации традиционного смысла истории.
Длительное историческое время, с одной стороны, обеспечивает значимость тех событий, которые указывают на присутствие, казалось бы, преодоленного социального субъекта. Он в них проявляет волю к противостоянию объективации и лишает политизированную бессубъектную историю ее смысла. Этапы меняются местами. Те периоды, которые в условиях короткого исторического времени были обозначены, как разрушительно бессмысленные, вдруг обнаруживают основополагающий смысл социального. Опираясь на коллективные представления, которые были выработаны в эти эпохи, познающий субъект обнаруживает принудительную силу воображаемых сообществ, видит их стремление к тому, чтобы ответственность перед обществом была необходимой составляющей события составляющего ткань социальной истории. Правила игры в обществе уже не искажаются метафизикой своеволия. Учреждающее насилие останавливает то явление, которое называлось «социальным самоубийством».
Иначе говоря, этнос вновь выходит из подполья, загоняя туда столь мощно актуализируемую позитивизмом и социал-дарвинизмом эгоистическую личность. Ее «расправы» над историческим субъектом заканчиваются. Абсолютная политизация жизни, ведущая к агрессии в отношении слабых соплеменников, переключается вовне. Да, к сожалению, возрождаются плохие «они» (Б.Поршнев), но если их не возродить, то аффективная историческая память, порождающая «мы» не будет иметь очевидного исторического воплощения, то есть с ней вновь не захочется соглашаться.
Закономерно поставить вопрос о том, почему так опасно увлекаться идеей необратимости исторического процесса и понимания прогресса как состояния отказа от созидательного и объективного смысла коллективных представлений.
Причина заключается в том, что традиция социосозидания таит в себе те образцы, которые влекут к обществу «мы» и дают возможность почувствовать историчность социального бытия.
Парадокс длительного исторического времени обнаруживается наиболее очевидно при сравнении так называемого примитивного и цивилизованного обществ. Следует оговориться, что сравнения бывают двух видов и разнятся по цели. Первое сравнение можно назвать сравнением превосходства. Это сравнение вновь и вновь утверждает и подтверждает поглощенность личности коллективом, как препятствие, мешающее данному сообществу прогрессивно развиваться. История локального сообщества считается утраченной и представляется как экзотический этнографический материал.
Другой подход стремится к обратному, его более вдохновляет желание увидеть то, что утрачено в цивилизованном обществе и эту утрату он либо считает обратимой, либо вдруг обнаруживает, что такой утраты и не было, просто человек коллектива (коллективный субъект) не актуализирован в обуржуазившемся сообществе, в силу его м иной социальной мобильности.
Неизменяемость находится в состоянии конфликта с изменяемостью. Человек речевой истории (человек мифа) более четко видит все последствия своего пренебрежения коллективными представлениями и утраты «мы». В силу локализации его коллектива, он понимает утрату «мы», как собственное исчезновение. Если исчезает «мы», умирает история, а значит, погибает осмысленное социосозидание, основанное на мифологической форме этнического самосознания. Привязанный к локальным смыслам, он не будет заинтересован в том, чтобы прошлое не участвовало в настоящем. Однако он и не сталкивается с проблемой утраты смысла традиционного действия. Совершая эти действия, зная их глубокий социосозидающий смысл, он возрождает исторического субъекта и подвергает сомнению объективность феномена « конца истории». Для него все повторяется, и значит, один раз найденный смысл истории торжествует постоянно в силу того, что для него смысл – это повторяемость. Исторический процесс для него длителен, а любая созданная не здесь инновация в первую очередь воспринимается как угроза столь долго созидаемому образу «мы». Это не заблуждение или злая воля – это попытка увидеть постоянный смысл заимствованной инновации, зачастую заключенный в том, чтобы «они» стали настолько близкими, а «мы» отделились.
Десубъективация исторического процесса, опираясь на метафору «просветившихся прежде нас» (И.Киреевский), делает мысль о нас как не имеющих истории вполне объективной научной истиной, не нуждающейся в скептической переоценке. «Переоценка всех ценностей» как методологическое основание мировоззренческой философии Фридриха Ницше направлено как раз против господства краткого исторического времени и вскрывает механизм возрождения исторической субъектности. Употребив термин «возрождение» невольно можно задуматься о возрождении исторического субъекта. Ведь «Рим» восстановил свою мощь, благодаря разрушению христианской исторической субъектности. Никто никогда не в состоянии утвердить то, что Возрождение стало одной их эпох искажения смысла реальных, социосозидающих коллективных представлений. Интерес капитала, его разграничения территории истории разными временами и есть одни из приемов снижения внимания к действию коллективных общностей. Вполне объективно это подтверждает оценка эпохи Возрождения как эпохи открытия «Я» социально безответственного.
Отсутствие новостей об историческом существовании «мы» вызывает иллюзии об их отсутствии. Это начало кризиса самосознания. Причина данного кризиса, скорее всего, состоит в переключении внимания социальных групп с наиболее важной социальной реальности на второстепенную. Механизм данного достижения хорошо вскрыт Сартром в его высказывании о том, что вещи иногда начинают править нами. Оценка исторического бытия с позиций письменных источников внезапно начинает осуществляться с позиций экономики репрезентированной в политике. Политика и экономика разрывают свою связь с религией и моралью Носители этнического самосознания сориентированы на агиократию , но почему? Причина заключается в том, что историческая субъектность этноса и рождается в момент иерофании (прорыва или рождения) священного. Его резкого прекращения практик, воплощающих опыт самосознания подчиненного природе вещей, то есть позволяющего вещам управлять собой.
Письменный текст является материализованной, то есть овеществленной мыслью. Кто когда-нибудь писал, тот понимает, что изначально текст создается для самовыражения позиции оторванного от «мы» «я». Зачастую он пишется с целью достижения вещественного социального статуса. Хотя прячется за постижение истины. Выход из «мы» в рамках письменной традиции его позиция необходимого удовлетворения материальных потребностей. Причастность к роскоши, а не к бедному коллективу как вектор развития человека есть основная движущая сила исторического или любого другого письменного существования. Рукопись можно продать, а вдохновение есть плод коллективного языка.
Письменно зафиксированное изменение в истории прописывается через смерть творцов истории (политических деятелей). «Я» исторического деятеля выступает удобным способом объективации исторического изменения, его необратимости и исчезновению продолжения событий. Появление закрытости исторического процесса позволяет во время подъема видеть упадок, а в незавершенности цикла видеть линейность.
Парадоксально то, что оставшееся в исторической памяти «событие» (событие), позволившее, наконец, увидеть значимость и непререкаемость коллективного «мы», изымается из традиционной идеологической схемы из-за постоянного утверждения сопротивления модели независимости истории от воли лишенных роскоши. Да и сама роскошь создает образ истории, как творение аристократии, личности или предприимчивого субъекта. Историческое прошлое репрезентируется роскошью, которая, по мнению Жоржа Батая, «в жертву не приносится».
Причина столь неуязвимого положения роскоши состоит в том, что она позволяет увидеть величие насилия (владения) и затмевает величие труда коллективного исторического субъекта. Воля по созданию роскоши, исходящая из писанного указами, зафиксированного летописного свода, а также обособление мастера, являются тем самым прописыванием величия личности над «мы». Ощущение творения истории субъективной волей самоизолированного субъекта через репрезентацию новых вещей (роскоши) выступает одной из практик снижения осознания исторических возможностей коллективной воли.
Самобытность производит мало роскоши. В этой самобытной роскоши видно лишь желание выразить момент иерофании, как осознание коллективом своей исторической субъектности. В данном случае роскошь изобретается, воля к ее изобретению и выражает неповторимость (уникальность) социокультурной общности. Но это изобретение не разграничивает, а сплачивает.
Разобщает и дискредитирует коллективные представления подражание чужому. Это подражание до поры до времени молчит, но в маргинальном плане однажды внезапно начинает прорываться. Маргинальное господство начинается с подражания властвующего субъекта, заимствованным образцам. При этом обсуждение «они» составляющее ткань любого этнического самосознания допускается только с превосходных позиций. Письменные тексты вычищают то историческое пространство, где этническое «мы» сохранилось.
Можно сказать, что отправной точкой кризиса этнического самосознания считается практика запрета властным субъектом блокировать любую критику, направленную в сторону той социокультурной общности образцы которой заимствуются. «Немцы» начинают говорить, говорить как господа. Их язык считается языком аристократического элитизма. На место апостола Андрея приходит апостол Петр с его иерархической письменной традицией. Разыгрывается драма не решившего ни одной задачи народа и его реформатора добивающегося хоть какой-то грамотности от него.
Речевая ментальная структура начинает вытесняться. Этническое самосознание разговора, заменяется этническим самосознанием предписанного образца.
Можно сделать вывод о том, что если вы теряете исторического субъекта, ищите процесс подражания, начатый с уничтожения долгосрочного исторического времени и реформирования социального пространства порождающего историю. Вместе с тем, обнаружив подражание, его практики по уничтожению социальных пространств, ищите самосозидающего субъекта в других местах, там, где процесс изобретения не окончился, а коллективные представления вновь и вновь вырабатываются.
Ведь, в сущности, любой религиозный опыт есть изобретение самобытного образца, актуализирующего коллективное представление, которое в свою очередь выливается в коллективное сопротивление политике аккультурации. Подражать своему, видеть, что центр мира находится здесь, устанавливать свой самобытный социальный порядок – все это можно считать фактором возрождения этнической субъектности.
При этом важно заметить, что борьба за самобытность воплощается в двух аспектах: в возрождении долгосрочного исторического времени, а также в возрождении через него социотворящих социальных пространств. Те пространства и те времена, которые якобы служили фактором репрезентации этнического «я», выдуманного элитой письменного общества начинают утрачивать смысл этносозидания и превращаются в носителей смысла социоразрушения.
Заметить, что социоразрушение таится в противопоставлении «я» как недавнего изобретения и «мы» как давнего изобретения, живущего по своим законам. «Я» изобретено письменной традицией по причине того, что именно она совершила тот разрыв с исторической памятью, который и в дальнейшем способствовал снижению роли коллективных представлений, а значит снижению фактора состояния этнического самосознания, как основного двигателя исторического процесса.
«Гримаса истории» состоит в том, что «Сила самовыражения жизни от горячих магико-мифологических текстов, «написанных» телодвижениями, органическими отправлениями, возгласами, до автоматических информационных систем затухает» [1, c. 221]. Это затухание в конечном итоге вполне позволяет обывателю говорить о том, что коллективный субъект (этнос) сошел на нет. Его прошлое отделилось от настоящего, он уже не может почувствовать ту мощь противостояния «мы» - «они», которая составляла всю основу социальной жизни до недавнего времени. Однако, его аффективное начало используется уже теми, кто запретил прошлому передаваться в устной традиции, кто ввел «конец истории». Они приватизируют этнопорождающие пространства и времена с целью получения некой выгоды. Историческая память используется для репрезентации народа с совсем другой стороны. Народ – это толпа или масса, которая уже не заслушивается, а наслаждается тем, что ее коллективное событие создано было конкретной личностью, которая желает оставаться неизвестной. Смысл любого исторического труда не заключается только в том, чтобы реконструировать прошлое, а он заключается в том, чтобы через нейтральные умозаключения подчинить мысль читателя, навязать ему точку зрения историка, который стремится сказать, что это не его точка зрения, а поэтому, вопросы о смысле его действия к нему не адресуются.
Заметим, что встречающаяся c письменной традицией коллективная память, часто сталкивается не с постоянством, а изменчивостью. Она в этой изменчивости не находит своего выражения, своей определенной исторической деятельности. Ее влияние на социум становится проблематичным, ибо она сама дискредитируется. Она не в состоянии создать ни одной этической и социальной нормы. Беспомощность социальности является лишь выражением устраивающей «я» картины социальной истории. Социальная история отсутствует в силу своей аффектации, а значит, ответственность перед ней нести не стоит.
Мы осмелимся утверждать, что не всякая письменная история работает подобным образом. Однако, именно та история, которая способствует отрыву местной элиты от своих корней и является социальной историей, уничтожающей историческую субъектность путем указания совсем иных мест и времени, творения история. Это порождает отсутствие такого важного фактора, как «местное сообщество», оно же может быть «названо историческим сообществом». Оно уже не создается в рамках повседневности, ибо этические полномочия местного сообщества подвергаются сомнению и разбиваются логикой «я».
Следует заметить, что коллективные представления направлены как раз против того состояния, которое описывает З.Бауманом. Его можно назвать состоянием несопротивления разрушению коллективных представлений. Это состояние происходит за счет феномена «экстерриториальных оригиналов». Генезис этого феномена нам следует подробно рассмотреть в дальнейшем. Сейчас же мы просто обозначили суть этого феномена, как подтверждение нашего высказывания о шаблонности актуализации коллективных представлений. «Экстерриториальные оригиналы» проникают в местную жизнь лишь в виде карикатур, возможно, в виде мутантов и монстров. В процессе проникновения они экспроприируют этически полномочия местных, лишая их всякой возможности ограничить разрушение» [2, c. 42].
Механизм экспроприации «этических полномочий» можно в контексте нашего исследования изобразить следующим образом. Первой стадией его формирования следует признать игнорирование практик постижения социосозидающего смысла коллективных представлений. Каким образом это достигается? Нам представляется важным, что в картине социальной истории коллективная воля поменяется экзистенциальным эгоизмом. Социальная история воспринимается не как арена подтверждения правильности (жизнеспособности) коллективных представлений (они же ритуализированное постижение социальных закономерностей), а как арена борьбы с ними. Событие торжества коллективных представлений, как факты существования социального субъекта (этноса) признаются малозначимыми. Актуализируются события успешной практики навязывания воли личности или небольшой социальной группе безликой и безвольной массе, которая не способна к социосозиданию и вообще, ни к какой деятельности кроме саморазрушения. Этическое начало в истории как методологическая основа выявления коллективного субъекта подменяется политическим расчетом.
Второй стадией является доказательство банкротства социосозидающих практик все еще действующих в рамках исторического сообщества. Это достигается констатацией факта наличия нового общества, порвавшего с обществом старым. Данная констатация состоит из двух вещей. Первая заключается в том, что исчезает история, воспроизводящая социосозидающую повседневность сообщества. Историю отбирают у народа и передают царям, начиная с царя реформатора. Вторая меняет историческую перспективу. Если раньше при закономерном историческом времени можно легко было увидеть практики самосохранения устойчивости исторического социального порядка, таящего величия социального альтруизма, то в краткосрочном времени социальный альтруизм (традиция сообщества) перестает быть торжеством смысла истории.
Опасность монстризации истории состоит в том, что экзистенциальный эгоизм субъектов, занявших важнейшие позиции в сообществе не способствуют социальному контролю. Человек более не верит в то, что в социуме возможна хоть какая-то гармония. Так наступает кризис этнического самосознания.
Третьей важной составляющей механизма дэтнизации социального бытия является демонстрация величия того, кто, по мнению «разрушающего монстра», должен стать образцом. Как правило, образцом становятся они, но с существенной поправкой. Их история также репрезентируется как торжество индивидуальной воли над коллективным субъектом.
Не находя возможности для восстановления роли основного исторического субъекта (этнического сообщества), человеческие общества начинают в изменении и разрывах видеть историю и исторические события. При этом важен тот факт, что попирание коллективных представлений, их игнорирование считается исторической необходимостью.
Образцы для подражания, такие как этнические сообщества, запрещено рассматривать в таком качестве. Они без сомнений признаются живущими в новом времени и новыми (гуманными) людьми нереальными. Создавая их нереальность, письменная история замалчивает феномен социальной жертвы, лежащей в основе их бытия. Сообщество побеждено безвозвратно и практики его сотворения забыты. Таков вердикт новой (письменной) точки зрения на поле исторической субъектности.
Можно заметить, что все это достигается путем прозрачности бытия коллективных субъектов, обозначение ясности их социального пространства. И практики сокрытия того факта, что эта прозрачность была достигнута путем навязывания исторической перспективы неким социальным субъектом (экстерриториальным оригиналом). Прозрачность не содержит тайны, тайна же является основой для пытливого ума исследователя. Таинственное изначально полагается сложным, а прозрачное всегда находится под контролем и предсказуемо. Предсказуемость означает безволие и потерю смысла сообщества.
Но это только кажущаяся прозрачность и безволие. Сообщество, скорее всего, не отсутствует, а уходит в подполье. Оно незаметно заставляет экстерриториального оригинала заставить обозначить себя как чужака. Это происходит путем изменения точки зрения.
Непредсказуемость власти в условиях ее нежелания считаться с этническим сообществом заставляют последнее воспринимать ее как чужую. Властвующему субъекту кажется, что он все знает и все контролирует, однако, его проекты саботируются, а его культура не признается в качестве содержащей мудрость. Этнос вдруг осознает, что чужак убрал те ценности, которые способствовали его самосознанию. Это осознание ведет к тому, чтобы поменять и точку зрения на те формы социального пространства, которые были уничтожены «доморощенным» чужаком.
Этнос начинает видеть те участки местности и то социальное окружение, где таинственный незнакомец становится знакомым и прозрачным. Методика помещения его на месте с точки зрения самобытности служит тем отправным моментом, что коллективные представления возвращаются. Как ни парадоксально, но возвращению социальной субъектности и торжеству гуманного смысла коллективных представлений способствует, в первую очередь, религиозный опыт.
Наряду с этим, необходимо отметить и то, что «восстание масс» - это феномен, возникший в результате уничтожения социальных пространств речевого характера. Прозрачность социального пространства, его профанизация и десакрализация порождает массу, восставшую на собственную аристократию духа. Но масса, расправившись с аристократией духа, внезапно обнаруживает, что добившись доступа в те места, куда ее до этого не пускали, она одновременно лишилась способности какого бы то ни было понимания смысла социального. Она внезапно поняла, что ее кто-то использовал для самоубийства. Была указана неправильная точка зрения на социальное пространство. Чужак заставил уничтожить своих, но своим не стал.
Дихотомия «чужое-свое» есть не только заблуждение доисторического человека, но и его система координат, позволяющая обрести смысл социального бытия. Повторяемость истории есть постоянное стремление к обретению свободы от чужого к актуализации своего.
Список литературы Феномен «исключения» этноса из истории как ретрологическая технология управления
- Шкуратов В.А. Историческая психология/В.А. Шкуратов. -М.:Смысл,1997. -505 с.
- Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества./Зигмунт Бауман пер.с англ. Кробочкина М.Л.-М.: Издательство «Весь Мир», 2004. -188с.