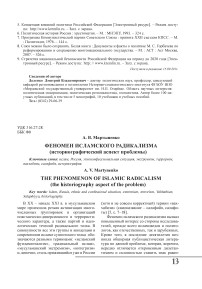Феномен исламского радикализма (историографический аспект проблемы)
Автор: Мартыненко Александр Валентинович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 4 (16), 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена феномену исламского радикализма на территории Российской Федерации. Статья представляет собой обзор основных отечественных и зарубежных исследований в этой области.
Ислам, Россия, этноконфессиональная ситуация, экстремизм, терроризм, ваххабизм, салафийя, историография
Короткий адрес: https://sciup.org/14720643
IDR: 14720643 | УДК: 316.27:28
Текст научной статьи Феномен исламского радикализма (историографический аспект проблемы)
В ХХ – начале XXI в. в мусульманском мире произошла резкая активизация многочисленных группировок и организаций повстанческо-диверсионного и террористического характера, а также партий и идеологических течений радикального толка. В совокупности все эти группы и концепции в современном исламе суннитского толка обозначаются разными терминами: «исламский фундаментализм», «радикальный ислам», «мусульманский экстремизм», «интегризм» и, конечно, столь прижившийся уже в России
(хотя и не совсем корректный) термин «ваххабизм» (самоназвание – салафийя, салафиты) [5, с. 7–18].
Феномен исламского радикализма вызвал повышенный интерес со стороны исследователей, прежде всего исламоведов и политологов, как отечественных, так и зарубежных. Кроме того, в последние десятилетия возникла обширная публицистическая литература по данной проблеме, которая, впрочем, нередко отличается откровенным дилетантизмом и склонностью ставить знак равен- ства между воинствующими салафитами и исламской уммой (общиной) в целом. Такой интерес, конечно, неслучаен, поскольку исламский экстремизм стал одним из глобальных вызовов современности – вызовом, брошенным не только системе международных отношений, но и национальной безопасности многих государств мира, в том числе Российской Федерации.
На Западе ведущими специалистами по исламскому радикализму являются П. Антес (Германия), М. Боннер (Великобритания), Ф. Джерджес (США), Ж. Кепель (Франция), Тарик Али (Великобритания), Д. Хироу (США), Й. Чоуири (США) [5; 12; 14–18].
Содержание работ западных авторов на тему исламского радикализма сводится к признанию растущей опасности со стороны этого явления, причем не только в отношении мирового сообщества, но также в отношении самой мусульманской уммы. С другой стороны, названные авторы так или иначе признают, что мощный всплеск исламского экстремизма последних десятилетий стал своеобразной ответной реакцией мусульманской цивилизации на американский экспансионизм, неприкрытое желание США играть роль некоего «мирового полицейского».
Особенно резко и открыто эту позицию озвучивают зарубежные исследователи мусульманского вероисповедания. Например, англичанин пакистанского происхождения Тарик Али допускает следующий пассаж по поводу событий 11 сентября 2001 г.: «Я хочу спросить, почему так много людей в неисламском мире остались равнодушными, когда это случилось, и почему многие радовались леденящим кровь словам Бен Ладена...
В никарагуанской столице Манагуа люди молча обнимались. В Порто-Алегре, глубокой провинции на юге Бразилии, большой концертный зал, набитый молодыми людьми, взорвался гневом, когда чернокожий гастролер – джазовый музыкант из Нью-Йорка – настоял на том, чтобы начать свое выступление с исполнения “Боже, благослови Америку”. Зрители в ответ скандировали: “Усама! Усама!”… До Пекина новости дошли ночью, слишком поздно, чтобы устроить что-нибудь, кроме нескольких праздничных фейерверков… Необходимость объяснить эту реакцию не означает оправдать зверства
11 сентября 2001 года. Это попытка пойти дальше примитивного аргумента США, что они ненавидят нас, они завидуют нашим свободам и нашему богатству. Дело совсем не в этом… Насилие может вызвать только новый виток насилия» [12, с. 34–35].
С 1990-х гг., прежде всего в связи с событиями на Северном Кавказе, в российском исламоведении также весьма активно стала разрабатываться проблематика, связанная с феноменом религиозно-политического радикализма в исламе[2–4; 7; 9–10; 13].
Современные отечественные исламоведы практически единодушны во мнении, согласно которому заметную роль на первоначальном этапе процесса «прививки» идей исламского фундаментализма на «дерево» российского ислама сыграли отдельные зарубежные (в основном арабские) религиозные деятели. Например, политолог и исламовед А. В. Малашенко отмечал в этой связи, что в России «возрожденческая тенденция в известном смысле трансплантирована извне под влиянием зарубежных богословов и политиков, в первую очередь арабских и иранских» [8, с. 79].
Другая отличительная черта российского салафийя (ваххабизма), которую отмечают отечественные исследователи, – отсутствие четкой структурированности и организационного единства. Так, Д. В. Макаров справедливо, на наш взгляд, указывает, что «навязываемые представления о существовании на Северном Кавказе некого единого экстремистского движения под исламскими лозунгами и попытки связать это движение с одной из разновидностей исламской идеологии, называемой “ваххабизмом”, не только способствуют развитию исламофобии в российском обществе, но и затрудняют поиск эффективной стратегии противодействия вызову радикального ислама на Северном Кавказе» [6, с. 42].
В современном российском исламоведении нет единого мнения о масштабах деятельности салафитов в РФ и, соответственно, о степени их влияния на российскую умму. В частности, специалист по Северному Кавказу В. Бобровников считает влияние салафийя (ваххабизма) в этом регионе явно преувеличенным, к слову, полемизируя по данному поводу с одним из ведущих отечественных исламоведов А. А. Игнатенко. Например, В. Бобровников отмечает: «Несмотря на активную миссионерскую деятельность, “ваххабитам” так и не удалось сделать свое движение массовым. Даже в Дагестане, где сосредоточено большинство их общин, по мнению экспертов, к ним относится не более 5– 10 % жителей республики. Эта часто цитируемая цифра скорее всего основывается на опросах общественного мнения, во время которых от 5 % до 10 % опрошенных дагестанцев дали положительную оценку “ваххабизму”. Время от времени в печати и Интернете появляются данные о численности “ваххабитских” джамаатов без ссылок на какие-либо материалы. К таким цифрам нужно относиться с осторожностью. Из-за полулегального характера движения собрать такую статистику сейчас практически невозможно. Эти данные могли быть получены от правоохранительных органов, которые не имеют четкого представления о движении и нередко включают в него просто ревностных мусульман» [1].
На наш взгляд, события последних лет, в частности диверсионно-террористическая активность вооруженного подполья на Северном Кавказе, недавние атаки шахидов в московском метро и другие террористические акты в европейской части России, позволяют сделать вывод о достаточно сильном военно-организационном потенциале исламистских групп, фактически бросивших вызов современной российской государственности.
Таким образом, несмотря на определенное различие мнений и подходов, отечественные исследователи радикального ислама в целом трактуют салафитские группы на территории современной России как реальную и серьезную угрозу этноконфессио-нальной и, шире, политической стабильности в нашем обществе и государстве.
Список литературы Феномен исламского радикализма (историографический аспект проблемы)
- Бобровников В. Ислам на постсоветском Северном Кавказе (Дагестан): мифы и реалии/В. Бобровников//Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри: сб. ст. -М., 2001. -С. 91-92.
- Добаев И. П. Исламский радикализм: генезис, эволюция, практика/И. П. Добаев. Ростов-на-Дону, 2003. -414 с.
- Заурбекова Г. В. Ваххабизм в Чечне/Г. В. Заурбекова. -М., 2003. -28 с.
- Игнатенко А. А. Ислам и политика/А. А. Игнатенко. -М., 2004. -255 с.
- Малашенко А. В. Исламские ориентиры Северного Кавказа/А. В. Малашенко. -М., 2001. -180 с.
- Наумкин В. В. Исламский радикализм в зеркале новых концепций и подходов/В. В. Наумкин. -М., 2005. -62 с.
- Пластун В. Н. Ислам, исламизм и транснациональный терроризм/В. Н. Пластун. -Новосибирск, 2006. -122 с.
- Поляков К. И. Арабский Восток и Россия: проблема исламского фундаментализма/К. И. Поляков. -М., 2003. -157 с.
- Юнусова А. Б. Радикализация ислама -угроза мусульманам России/А. Б. Юсунова//Историко-культурные аспекты развития полиэтничных регионов России: сб. ст. -Саранск, 2006. -С. 326-335.
- Кепель Ж. Джихад. Экспансия и закат исламизма/Ж. Кепель. -М., 2004. С.7-18.
- Макаров Д. В. Радикальный исламизм на Северном Кавказе: Дагестан и Чечня/Д. В. Макаров//Этнополитическая ситуация на Северном Кавказе. -М., 1999. -С. 42.
- Малашенко А. В. Исламское возрождение в современной России/А. В. Малашенко. -М., 1998. -С. 79.
- Тарик Али. Столкновение цивилизаций: крестовые походы, джихад и современность/Али Тарик. -М., 2004. С. 34-35.
- Antes P. Der Islam als politischer Faktor/P. Antes. -Hannover, 1999. -99 S. (на нем.)
- Bonner M. Jihad in Islamic history: doctrines and practice/M. Bonner. -Oxford, 2006. -XVIII, 197 p. (на англ.)
- Gerges F. A. America and political Islam: Clash of cultures or clash of interests?/F. A. Gerges. -Cambridge, 1999. -282 p. (на англ.)
- Кепель Ж. Джихад. Экспансия и закат исламизма/Ж. Кепель. -М., 2004. -468 с.
- Тарик Али. Столкновение цивилизаций: крестовые походы, джихад и современность/Али Тарик. -М., 2006. -528 с.
- Hiro D. War without the end: the rise of Islamist terrorism and global response/D. Hiro. -L.; N.Y., 2002. -XXXIV, 513 p. (на англ.)
- Choueiri Y. Islamic Fundamentalism/Y. Choueiri. -Boston, 1990. -178 p. (на англ.)