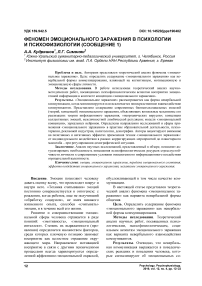Феномен эмоционального заражения в психологии и психофизиологии (сообщение 1)
Автор: Кудряшов Аркадий Александрович, Симонян Луиза Гагиковна
Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu
Рубрика: Общая психология
Статья в выпуске: 4 т.12, 2019 года.
Бесплатный доступ
Проблема и цель. Авторами представлен теоретический анализ феномена «эмоциональное заражение». Цель: определить содержание «эмоционального заражения» как невербальной формы коммуницирования, влияющей на когнитивную, мотивационную и эмоциональную сферы личности. Методы исследования. В работе использован теоретический анализ научно-методических работ, посвященных психофизиологическим аспектам восприятия эмоциогенной информации в контексте концепции «эмоционального заражения». Результаты. «Эмоциональное заражение» рассматривается как форма невербальной коммуникации, когда минимизируется или исключается непосредственное взаимодействие коммуникантов. Представлено содержание современных биопсихосоциальных моделей (теорий, концепций) эмоционального заражения, объясняющих возможные механизмы его реализации: теории инфекционного заражения, «неорганических вирусов»; концепции коллективных эмоций, межличностной лимбической регуляции; модели «эмоциональной конвенции», зеркальных нейронов. Определены направления исследований и сферы применения «эмоционального заражения» в практике образовательной деятельности, психотерапии, рекламной индустрии, политологии, демографии. Авторы акцентируют внимание на позитивных и негативных эффектах применения техник «эмоционального заражения»: от индивидуального воздействия в рамках корригирующих мероприятий до планетарного масштаба - при регулировании демографической ситуации. Заключение. Анализ научных исследований, представленный в обзоре, позволяет актуализировать необходимость повышения психофизиологических ресурсов стрессоустойчивости личности к современным условиям эмоциогенного информационного воздействия отрицательной валентности.
Эмоции, эмоциональное заражение, передача эмоционального состояния, эффекты воздействия эмоционального заражения, механизмы эмоционального заражения
Короткий адрес: https://sciup.org/147234148
IDR: 147234148 | УДК: 159.942.5 | DOI: 10.14529/jpps190402
Текст научной статьи Феномен эмоционального заражения в психологии и психофизиологии (сообщение 1)
Введение . Эмоции позволяют человеку давать оценку всему, что происходит вокруг и внутри него. «Техника считывания» эмоций постоянно совершенствуется в онтогенезе: с рождения, когда ребенок, еще не получивший «обработку социумом», не имея никакого жизненного опыта, способен «считывать» эмоции, и в течение всей его жизни.
Развитие и совершенствование эмоциональной сферы человека отражается в ряде понятий: «эмотивность», «эмоциональный интеллект». Степень их выраженности (проявления) определяется множеством факторов, среди которых ключевую позицию занимает восприятие как целостное отражение окружающего мира. Направляемое мотивацией восприятие в связи с другими психическими процессами всегда характеризуется определенной аффективно-эмоциональной окраской, обусловливающей в том числе качество коммуникации.
В настоящей статье представлен теоретический анализ феномена «эмоциональное заражение» как варианта невербальной формы общения.
Цель . Определить содержание феномена «эмоционального заражения» как невербальной формы коммуницирования.
Методы исследования . Теоретический анализ научных работ, посвященных психологическим, психофизиологическим, социальным аспектам эмоционального заражения как варианта невербального взаимодействия коммуникантов.
Результаты. Очевидно, что невербальная коммуникация выражается в поведенческих реакциях и поведении человека, которые сигнализируют об эмоциональных со- стояниях и характере взаимодействия коммуникантов.
Многочисленные исследования невербальных средств коммуникации свидетельствуют о востребованности результатов в различных областях науки (Новичихина с соавт., 2017; Цибуля, 2018; Hall et al., 2019; Mondada, 2019). Актуальность подобных исследований продиктована высокой интенсивностью информатизации социального взаимодействия (Байгужин с соавт., 2017).
В литературе представлено достаточное количество результатов исследований, демонстрирующих механизмы и закономерности реализации невербальной коммуникации (Кузнецов, 2014; Проскурнич, 2017; Байгужин с соавт., 2019). Установлены критерии оценки эффективного распознавания средств невербальной коммуникации (Подвигина с соавт., 2019; Domínguez-Jiménez et al., 2020), например, успешно использующиеся в автоматизированных системах мониторинга и обеспечения безопасности (Kowalczuk et al., 2019; Lin et al., 2019).
Однако научный интерес представляют феномены передачи (переноса) эмоционального состояния как варианта часто неосознанной (односторонней) невербальной коммуникации. Спонтанное появление чувства тревоги, страха, радости и других эмоциональных состояний не всегда обусловлено прямым или косвенным, комбинированным или сочетанным воздействием факторов макро- или микросреды. Однако источником индукции эмоционального состояния всегда является другой человек, инициирующий его осознанно или бессознательно. В силу передачи информации, как правило эмоциогенной, во многом на бессознательном уровне у ее получателя формируется эмоциональное состояние (эмоция), которую он воспринимает как собственную. Дальнейшее воздействие эмоции проявляется в немотивированной активности личности – в соответствующих действиях. Данный феномен семантически представлен двумя понятиями: «эмоциональный резонанс» и «эмоциональное заражение».
Примечательно, что целенаправленное использование указанного выше феномена находит применение в различных сферах жизнедеятельности социума. Так, в работе Т.И. Черняевой с соавторами (2009), концепт эмоционального резонанса раскрывается как «фундаментальный процесс общества потреб- ления», которое возможно в условиях совершенной коммуникативной инфраструктуры. Автор, указывая на новый фактор символической коммуникации (знак, имидж, бренд, тиражируемый медиа), определяет, что при производстве объектов потребления последние наделяются «символическим капиталом», ведущую роль в создании которого играют эмоции (Черняева с соавт., 2009).
Распространение эмоционального состояния среди индивидуумов социума сообразно развитию эпидемического процесса в соответствии с теорией Л.В. Громашевского. Согласно данной теории, эпидемический процесс возможен при наличии трех составляющих: источника возбудителя инфекции; механизма передачи возбудителя инфекции и восприимчивого организма.
Первоначально эпидемиологические модели были предназначены для исследования распространения микробных заболеваний. Однако сегодня они находят свое применение для изучения социальных процессов, в частности влияния информации, стилей поведения между людьми в социальных сообществах (Taheri et al., 2012; Fei, 2019). Ранее J.H. Fowler et all (2008), применив модифицированную модель спонтанного распространения инфекционных заболеваний (SISa), продемонстрировал возможность распространения эмоционального поведения, индуцированного положительными эмоциями, аналогично распространению инфекционных агентов в больших социальных сетях (Fowler et al., 2008).
Феномен эмоционального заражения представляют как способность перенимать, испытывать на себе эмоциональный заряд окружающей атмосферы или людей (Davies, 2011). При этом эмоциональное состояние или его внешние признаки (в ситуации распознавания) в результате восприятия передаются человеку, который в итоге чувствует то же самое. Впоследствии возникает ощущение, которое описывается в следующих контекстах: «моя музыка», «наши люди», «моя книга» и т. п.
Исходя из того, что условием коммуникации (общения) является проявление мотивационного, когнитивного и поведенческого компонентов, можно констатировать определенную их детерминацию в формировании определенных эмоций и последующего поведения личности (Л.С. Выготский, А.А. Ухтомский, Б.Ф. Ломов). Для определения де- терминант личности и установления взаимосвязи между ними особое значение приобретает положение Б.Ф. Ломова о системной детерминированности психических явлений. Теоретическое положение рассматривает выражение множественности детерминант психики, действие которых меняется в ходе развертывания психического процесса. В такой системе детерминант можно выделить системообразующий фактор и установить характер отношений между ними (Безладнова, 2014).
Таким образом, когнитивная компонента, а именно интенциональный объект и относящееся к нему убеждение, рассматривается, как необходимая предпосылка к формированию эмоций (Изард, 1999). Однако часто исходная эмоция не является эмоциональным объектом зеркального отклика, так как у реципиента отсутствуют убеждения, которые бы делали ее актуальным – интенциональным объектом этого отклика. Отсюда распознавание эмоций – не значит их переживание.
Перспективность исследования эмоционального заражения развивается теорией зеркальных нейронов (Carrillo et al., 2019; Krautheim et al., 2019), отраженной, в свою очередь, в концепции «эмоционального мозга» (Рычкова с соавт., 2012). Зеркальные нейроны – это нейроны подражания, которые активируются как при наблюдении за поведением, так и в ходе проявления поведенческих реакций. Зеркальным нейронам приписываются функции, которые относятся к субъективным ощущениям (Базян, 2019).
Развивая теорию Л.В. Громашевского (1965), можно предположить, что воздействию любого эмоциогенного фактора (аналогично «инфекционному агенту») личность может противостоять в силу невосприимчивости, т. е. выраженной ограниченной эмотив-ности. Причинами такой ограниченности у здоровой личности могут быть низкий уровень эмоционального интеллекта (Конькова, 2019), иррациональность мышления (Кузнецов, 2019), когнитивные искажения (Losiak et al., 2019) или эмоциональная конвергенция (Bruder et al., 2014).
Заслуживает внимания концепция коллективных эмоций как часть теории аффективного социального обмена. Она отражает роль коллективного влияния акторов, вызывающих взаимные эмоции друг у друга даже при отсутствии видимых эмоциональных сигналов (Lawler et al., 2014).
По мнению сторонника симуляционной теории эмоционального заражения T. Cochrane (2010), для того чтобы состоялась передача эмоции, достаточно ее восприятия; то есть эмоциональное заражение – несознательный процесс, который в момент подключения сознания преобразуется в эмпатическую реакцию (Cochrane, 2010).
В работе E. Hatfield et all (2014) механизм эмоционального заражения описывается тремя последовательными компонентами: подражанием, ответной реакции и заражением.
Эмоциональное заражение, его эффекты являются предметом исследований многих научных направлений. Так, в искусстве эффект эмоционального заражения используется для повышения выразительности и эстетической привлекательности объектов восприятия (Пронин, 2017; Панаиотиди, 2018).
Многие педагогические методические разработки и приемы включают в себя технологию эмоционального заражения. Так, например, по мнению С.Е. Морозовой (2014), основными средствами духовно-нравственного воспитания в хоровом исполнительстве являются эффект эмоционального заражения и ситуация успеха. При обучении игре на музыкальных инструментах среди методов формирования «музыкально-исполнительской эмоции» также выступает эмоциональное заражение.
В политологии данный феномен рассматривается как манипулятивная технология (Бойчук, 2019) – один из четырех психологических механизмов воздействия на сознание и поведение людей, среди которых убеждение, внушение и подражание; в рекламной индустрии – с целью усиления эмоциональной экспрессивности товара (Старовойт, 2016) или услуги (Виноградова, 2009).
С точки зрения мультимодального воздействия на личность, прикладное значение имеет авторская концепция эмоционально обонятельных коммуникаций, в основе которой – связь базовых эмоций с базовыми запахами. Предполагается, что в основе механизма эмоционального заражения может лежать конструкт «эмоция – запах» (Березина, 2018).
В литературе достаточно широко представлен психотерапевтический, корригирующий потенциал эмоционального резонанса в рамках психокоррекции нарушений аффективной сферы (Калмыкова с соавт., 2016; Чи-гинцева с соавт., 2018).
Единичными являются исследования, в которых эмоциональное заражение рассматривается обязательным механизмом социализации ребенка в семье (Падун, 2017; Градова, 2018). Общей для этих исследований является установка о том, что психические состояния взрослых становятся общими как для родителей, так и для их детей посредством процессов заражения и подражания.
Наряду с условно положительными эффектами широко представлены и описываются и неблагоприятные (негативные) эффекты использования технологии эмоционального заражения. Например, искусственная массовость в результате воздействия эмоционального заражения и возникающие в связи с этим угрозы правопорядку и общественной безопасности (Никитина, 2016); технологические аспекты мотивации и мобилизации целевой аудитории в декларации негативного образа будущего в ходе различных практик протеста против реформ и/или власти (Пономарев, 2017; Карапетян с соавт., 2017). Описывая принцип интолерантности как психологическую основу экстремистского дискурса, А.А. Карапетян и Ю.Р. Тагильцева (2017), представляют эмоциональное заражение одним из приемов дискредитации. В результате анализа текстового материала экстремистской направленности авторами выявлены основные коммуникативные стратегии: дискредитация и запугивание. При этом основными тактиками запугивания – внушения страха – являются «экспрессивный удар», «манипулятивное комментирование» и «эмоциональное заражение» (Карапетян с соавт., 2017).
Актуализируется проблема интернет-рисков (Калинина, 2017) и угроз жизни подростка, распространяемых через Интернет (Евсеева с соавт., 2019). На примере так называемых групп смерти авторы определяют эмоциональное заражение как эффективный способ воздействия на личность подростка. Описаны причины и механизмы развития массового диссоциативного расстройства, трактуемого авторами как «поведенческая эпидемия» (Молчанова с соавт., 2016).
Описаны результаты исследования эмоционального заражения, отражающие глобальный характер воздействия эмоциогенного фактора, его целевой интерпретации и использования. Так, например, ставится под сомнение рождаемость как рационально спланированное поведение человека. В работе
«Социальные сети и рождаемость» М.А. Голева и И.В. Павлюткин (2016) констатируют необходимость включения характеристик социального взаимодействия и социальных сетей в модели объяснения фертильного поведения человечества.
Исследования социальных взаимодействий выявляют четыре основных механизма, влияющих на рождаемость: социальное обучение; социальное давление; социальное заражение и социальную поддержку (Bernardi, 2014). Указанные социальные механизмы определяют, моделируют и модифицируют нормы и установки о браке и родительстве, что выражено, например, в возрастных цензах вступления в брак и рождении первенца, а также – в контроле за рождаемостью и количестве детей в семье.
Глобальные сетевые исследования позволяют по-новому взглянуть на роль традиционных факторов в объяснении фертильного поведения, таких как возраст, образование, религиозность, а также оценить возможности влияния мер социальной политики на рождаемость (Голева, 2016).
По мнению J.M. Fernández-Dol et all (2007), культура меняется на протяжении смены нескольких поколений, формируя так называемые «эмоциональные конвенции» – образцы проявления чувств, соответствующие социально ожидаемым типам эмоционального реагирования в определённых обстоятельствах, а не переживания как таковые. Формирование эмоциональных конвенций сообразно формированию стереотипа, который жестко «накладывает отпечаток на фактические данные в момент их восприятия» за счет оценивания, реагирования и мышления личности и/или общества (Чаплыгина, 2010). Однако эмоциональное заражение, в отличие от стереотипа, происходит автоматически, за пределами сознательного контроля; для чего достаточно слабых, ненаправленных эмоциональных взаимодействий (Hatfield, 2009).
Очевидна роль СМИ в манипулировании сознания через эмоциональную направленность информации, при этом содержание информационного контента уходит на второй план (Басовская, 2004). Современные информационные технологии целенаправленно формируют эмоциональную атмосферу общества (Градова, 2018).
В свете указанных тенденций, актуальными являются исследования воздействия факторов, влияющих на информационнопсихологическую безопасность личности: культурные и интеллектуальные характеристики населения, протестно-критический потенциал личности (Давыборец, 2015).
Согласно концепции межличностной лимбической регуляции, описывающей механизмы передачи и создания общих эмоций (Гоулман с соавт., 2008), объясняется синхронизация психофизиологического состояния у совместно работающих людей. На наш взгляд, такого рода синхронизация противопоставляется сохранению идентичности личности. В работе С.Л. Соловьевой «Идентичность как ресурс выживания» (2018) идентичность личности рассматривается как проявление способности к эмоциональному резонансу с другими людьми, но при условии относительной непроницаемости собственных личностных границ. Совершенно справедливо замечание автора о том, что в определенные периоды жизни частичная идентификация со «значимыми другими» необходима для успешной интеграции в социальные процессы. Однако «растворение» личности в этих других разрушает идентичность, формируя предпосылки для психических нарушений (Соловьева, 2018).
Заключение . Теоретический анализ содержательного наполнения составляющих эмоционального заражения в контексте эмоционального взаимодействия как результата невербального общения выявил ряд особенностей феномена «эмоциональное заражение», его психолого-социальных и социобио-логических эффектов воздействия на личность, общество.
Психологический и психофизиологический аспекты изучения эмоционального заражения предопределяют перспективность ряда направлений исследования (психодрама, коучинг, нейромаркетинг и др.). В данном контексте в ходе применения техник, в основе которых – концепция эмоционального заражения, приоритетной является задача обеспечения информационно-психологической безопасности личности.
Список литературы Феномен эмоционального заражения в психологии и психофизиологии (сообщение 1)
- Базян, А.С. Зеркальные нейроны, физиологическая роль, особенности функционирования и эмоционально насыщенная когнитивная карта мозга / А.С. Базян // Успехи физиологических наук. - 2019. - Т. 50, № 2. - С. 42-62.
- Байгужин, П.А. Реактивность вегетативной нервной системы перципиентов в условиях воздействия невербальной информацией / П.А. Байгужин, Д.З. Шибкова, А.А. Кудряшов, О.В. Байгужина // Человек. Спорт. Медицина. - 2019. - Т. 19, № S1. - С. 83-93.
- Байгужин, П.А. Функциональное состояние центральной нервной системы при воздействии слабоструктурированной информации / П.А. Байгужин, Д.З. Шибкова // Человек. Спорт. Медицина. - 2017. - Т. 17, № S. - С. 32-42.
- Басовская, Е.Н. Творцы черно-белой реальности: о вербальной агрессии в средствах массовой информации / Е.Н. Басовская // Критика и семиотика. - 2004. - № 7. - С. 257-263.
- Безладнова, М.Ю. Теоретические основы и подходы к проблеме детерминации поведения человека // Научное обозрение. Серия 2: Гуманитарные науки. - 2014. - № 6. - С. 95-101.