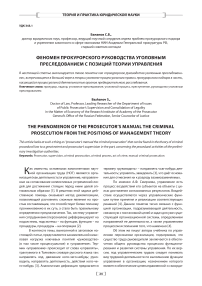Феномен прокурорского руководства уголовным преследованием с позиций теории управления
Автор: Бажанов С.В.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 4 (45), 2016 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье анализируется такое понятие как «прокурорское руководство уголовным преследовани- ем», встречающееся в большей мере в теории уголовно-процессуального права и прокурорского надзора в части, касающейся процессуальной деятельностью органов предварительного расследования.
Прокурор, надзор, уголовное преследование, уголовный процесс
Короткий адрес: https://sciup.org/14120148
IDR: 14120148 | УДК: 343.1
Текст научной статьи Феномен прокурорского руководства уголовным преследованием с позиций теории управления
К ак известно, основными компонентами научной организации труда (НОТ) являются организация (как деятельность) и управление, направленные на согласование коллективных устремлений людей для достижения стоящих перед ними целей оптимальным образом [1]. В решении этой задачи действенную помощь оказывает метод декомпозиции, позволяющий расчленять сложные явления на простые составляющие, что способствует более полному проникновению в их суть, а стало быть правильному определению предназначения. Так, систему управления сотрудниками (персоналом) дифференцируют на подсистемы, подсистемы – на функции, функции – на процедуры, процедуры – на операции [2].
В контексте темы, вынесенной в заголовок настоящей статьи, представляется занимательной смысловая нагрузка ключевых понятий «руководство» (в том числе процессуальное) и «управление». Термин «управление» происходит от слова «управлять», трактуемого в Толковом словаре русского языка так: направлять ход, движение кого-чего-нибудь; руководить, направлять деятельность, действия кого-че-го-нибудь [3]. Аналогичная дефиниция предлагается термину «руководить» – направлять чью-нибудь деятельность; управлять, заведовать [3], что даёт основания для отнесения их к разряду взаимозаменяемых.
По мнению А.Ф. Смирнова, управление есть процесс воздействия его субъектов на объекты с целью достижения согласованных результатов. Воздействие осуществляется через управленческие функции путем принятия и реализации соответствующих решений [4]. Данное понятие тесно связано с функцией организации, подразумевающей деятельность, связанную с постановкой целей и задач для уже существующей организационной системы, определением направлений ее деятельности, а также управлением процессом исполнения того, что намечено [4].
Об этом же пишут авторы учебника по управлению персоналом организации, подчеркивая, что существо труда руководителя заключается в обеспечении общего руководства процессом функционирования и развития системы управления. По их версии, под управленческим трудом следует понимать вид трудовой деятельности по выполнению функции управления в организации, назначением которого является обеспечение целенаправленной и скоорди- нированной деятельности её трудового коллектива по решению стоящих перед ним задач [2].
Аналогичную позицию, но в приложении к прокурорской надзорной практике, занимает и Р.М. Гасанов, акцентирующий внимание, в частности, на том, что «организация работы прокурорского надзора»1 включает в себя два разноплановых уровня, подчиненных решению одной проблемы:
организация как элемент управленческой деятельности прокурора и организация как элемент надзорной деятельности, включающей в себя определение путей ее подготовки и совершенствования [5].
Ввиду наблюдаемого ныне в теории уголовнопроцессуального права смешения и даже отождествления таких основополагающих понятий как «надзор» и «процессуальное руководство» образовалось ненормальное положение, тонко подмеченное профессором А.Б. Соловьевым: прокуроры стали ответ-ственнызату работу,зазаконностью которойони призваны наблюдать. С точки зрения разделения функций в уголовном процессе предпочтительной следует признать такую ситуацию, когда начальник следственного отдела органа внутренних дел осуществляет процессуальное руководство расследованием по делам подчиненных ему следователей, а прокурор сосредоточен на надзорной деятельности. На наш взгляд, заключает названный ученый, решение этого вопроса обусловливает необходимость внесения:
-
1) определенных уточнений в концепцию прокурорского надзора;
-
2) дополнений в уголовно-процессуальный закон;
-
3) корректировки надзорной практики [6].
С ним солидаризуется М.Е. Токарева, подчеркивающая, что прокурор должен быть освобожден от руководства следствием, координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, от прямой ответственности за её состояние, а также за раскрываемость уголовно наказуемых деяний [7].
Соглашаясь с ними в этой части, автор настоящей статьи, тем не менее, принимает точку зрения тех авторов, которые убеждены в том, что организацию работы в прокуратуре следует представлять как процесс, состоящий из нескольких этапов. Начинается он с выявления потребности; в системе органов прокуратуры – это в основном потребности в выполнении определенного вида и объема работы или в формировании конкретного направления деятельности. На втором этапе проектируется определенная структура, состоящая из должностей, закрепленных видов деятельности или участков, определяются взаимос- вязи элементов, составляющих структуру организационной системы [8].
Вступая в полемику на предмет состоятельности концепции так называемого прокурорского руководства уголовным преследованием, не следует забывать о том, что одним из принципов научного управления является принцип скалярной цепи, заключающийся в передаче распоряжений и осуществлении коммуникаций между различными уровнями иерархии через непрерывную (передаточную) цепь команд («цепь начальников»). Характер труда управленцев вытекает из сущности управления как вида деятельности, ориентированной на постановку целей и объединение усилий множества людей для их своевременного и эффективного достижения. Именно в этом смысле под руководителем целесообразно понимать члена (именно той) организации, который чаще всего имеет в своем административном подчинении других ее (организации) работников, наделенного полномочиями направлять их действия и нести всю полноту ответственности за состояние управляемого объекта. В данном контексте автор настоящей статьи и не приемлет словосочетание «прокурорское руководство уголовным преследованием», относя прокурора к разряду «внесистемных» (нештатных) руководителей.
Не вредно осознавать и то, что процесс управления есть определенная совокупность управленческих действий, логически связанных друг с другом в обеспечение достижения поставленных целей путем преобразования ресурсов на «входе» в продукцию или услуги на «выходе» системы. Между структурой управления и организационной структурой существует тесная взаимная связь: структура организации отражает принятое в ней разделение работ между подразделениями, группами и исполнителями, а структура управления создает механизмы координации, обеспечивающие эффективное достижение её общих целей и задач.
Стало быть, структура управления представляет собой упорядоченную совокупность связей между звеньями и работниками, занятыми решением управленческих задач, где элементами выступают службы, группы и отдельные сотрудники, выполняющие конкретные функции управления в соответствии с принятым разделением управленческих задач, функций и работ. Отношения между элементами системы (организации, учреждения) поддерживаются благодаря связям, подразделяемым на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные связи носят характер согласования; как правило, они одноуровневые. Вертикальные связи – рассматриваются в качестве связей соподчинения; необходимость в них возникает при иерархичности управления, то есть при наличии нескольких его уровней.
Все это не свойственно взаимоотношениям типа «прокурор – следователь» и «прокурор – дознаватель», где незримо присутствует некое промежуточное звено в облике начальника подразделения (органа) дознания, руководителя следственного органа, его заместителя и проч. Субординационные контакты (отношения) между перечисленными должностными лицами в аспекте прокурорского руководства уголовным преследованием нисходят к «шахтному» принципу построения, что в контексте изложенного представляется весьма уязвимым.
К тому же в теории управления наличествует и такой феномен как пространственная дифференциация, под которой принято подразумевать территориальную удаленность прокуроров от поднадзорных им объектов (в данном случае – от органов предварительного расследования). В подобных ситуациях проявляет себя фактор формализации, характеризующийся масштабом использования правил и регулировочных механизмов для управления поведением непосредственных, но ситуационно удаленных от прямого управляющего воздействия, исполнителей. Другими словами, формализация отражает уровень стандартизации работ, однако, опять же и по общему правилу исключительно внутри организации [9].
С точки зрения профессора В.П. Божьева «... процессуальное руководство деятельностью по расследованию преступлений – это сложный многоуровневый комплексный феномен. Попытка вычленить здесь только процессуальный аспект может быть решена лишь частично и в высшей степени условно, так как в реальной действительности процессуальная и организационно-управленческая деятельность по руководству следователями переплетаются между собой» [10].
Автор настоящей статьи присоединяется к мнению названного ученого, памятуя о том, что в теории управления признаётся аксиоматичным: руководят, как правило, не процессом, а людьми. «Волевое» возложение на прокурора функции руководства уголовным преследованием предполагает два варианта его действий в заданном направлении. Первый: он (так сказать процессуально) руководит лишь одним дознавателем или следователем. Подобная организация прокурорской надзорной практики может быть охарактеризована как опека, но не управление; и второй: он, фактически подменяя многочисленных ведомственных начальников органов (подразделений) дознания, руководителей следственных органов, их заместителей, «командует» всеми без исключения дознавателями и следователями, работающими в сфере его юрисдикции. В среднестатистическом органе внутренних дел2, будем считать, работает 3 – 4 дозна- вателя (вместе с соответствующим руководителем), а в следственных подразделениях – 10 – 12 следователей, включая непосредственных начальников и их заместителей. У каждого в производстве примерно 10 – 12 уголовных дел, не считая «висяков» и материалов процессуальных проверок. Получается, что прокурор уполномочивается осуществлять руководство уголовным преследованием, под которым мы вправе понимать систематическую ежедневную уголовнопроцессуальную деятельность, примерно по 170 – 200 уголовным делам ежемесячно. Есть ли необходимость в комментариях?
Общепризнано, что под системой прокуратуры понимается совокупность организаций, однородных по своим задачам, или учреждений, организационно объединенных в одно целое, что, собственно, и провозглашено в статье 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»: прокуратура Российской Федерации является единой федеральной централизованной системой органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации [11].
В одной из прошлых своих публикаций автор настоящей статьи уже писал о том, что термины «органы дознания» и «органы предварительного следствия» («следственные органы») в юридико-семантическом смысле являются не состоятельными, поскольку в Российской Федерации отсутствуют единые, строго централизованные, построенные по иерархическому принципу государственные структуры, занимающиеся исключительно дознанием или предварительным следствием [12].
Не следует забывать и о том, что прокурор является одним из представителей стороны обвинения (п. 47 ст. 5 УПК), что до некоторой степени оправдывает интерпретацию его правового положения в досудебных стадиях уголовного процесса в качестве руководителя уголовным преследованием. Составители учебника по уголовному процессу так и пишут: «Прокурор... вправе осуществлять процессуальное руководство органом предварительного следствия, как и другими государственными органами уголовного преследования» [13].
В свете установлений Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» [14] сказанное становится особенно актуальным ввиду открытия новых полномочий прокурора по процессуальному руководству, но только не дикции прокурора органов предварительного расследования из других ведомств. – прим. авт.
уголовным преследованием в форме дознания, как принято считать, а, строго говоря, органами дознания. А это уже другая, не такая смешная тема.
В комментируемых тенденциях развития уголовно-процессуального законодательства просматривается скрытое стремление новоиспеченных российских реформаторов в который уж раз занять толику сомнительного международного опыта в пику утраченному отечественному, и привнести его на родную почву. Таким образом форматируется плохо подготовленное правовое поле для легализации того, что в современной юридической литературе именуется полицейским дознанием, производимым под руководством прокурора при внешнем (стороннем, независимом) судебном контроле. Однако установления части 1 статьи 37 УПК РФ позволяют сделать вывод о том, что руководство (со стороны прокурора) уголовным преследованием, производимым органами дознания и предварительного следствия, совмещается у него с функцией надзора затаковым, что абсолютно не вписывается в рамки традиционных представлений о формах прокурорского участия в досудебном производстве по уголовным делам. К тому же прокурорский надзор отягчается еще и судебным контролем – печальный опыт, уже имевший место быть в истории советских правоохранительных органов (20-е гг. XX в.), когда следственные аппараты, выведенные из судебной системы, в организационном отношении были переподчинены прокуратуре. Маститыми учеными того периода времени подобная организация «следственной части» была подвергнута резкой и, как представляется, вполне заслуженной критике [15]. Однако, спустя практически 100 лет, ситуация не изменилась, по крайней мере, в лучшую сторону.
Таким образом, отсутствующая в федеральном законодательстве, но широко комментируемая в научной литературе суррогатная функция руководства уголовным преследованием предполагается к реализации практически по всем без исключения уголовным делам, что для районных (городских) прокуроров является обременительным ввиду малочисленности штатов возглавляемых ими учреждений.
Дисгармонирует руководство уголовным преследованием и с поддержанием обвинения в суде (ч. 3 ст. 37 УПК РФ), где прокурор уполномочивается обеспечивать законность возлагаемого на него действа по результатам расследования, проведенного при его же активном («руководящем») участии. И здесь совершенно не важно, какое (то же или другое) должностное лицо прокуратуры выступает в суде в качестве государственного обвинителя. Можно сказать и больше; в предложенной российскими парламентариями конструкции различие между понятиями «судебное производство» и «уголовное судопроизводство» едва уловимо, а термин «судебное производство» ложно ориентирует исследователей не только на стадию судебного разбирательства, которую, надо полагать, и имел в виду законодатель, но и на стадии апелляционного, кассационного и судебно-надзорного производства.
Ввиду широко рекламируемой ныне так называемой пассивной роли суда при рассмотрении и разрешении уголовных дел возникает вопрос и о том, кто же всё-таки должен осуществлять уголовное преследование и (тем более) руководство оным (если принимать данную парадигму) подсудимого в ходе судебного следствия. По логике закона, опять же государственный обвинитель. Подразумевая это, часть 1 статьи 246 УПК РФ обращает внимание на обязательное участие в судебном разбирательстве обвинителя – участника уголовного процесса, правовой статус которого в УПК РФ, включая статью 5, никак не определен. Лишь статья 43 названного кодифицированного законодательного акта упоминает о частном обвинителе. Однако и здесь возникает недоумение: в каком соотношении находятся понятия «уголовное преследование» и «поддержание обвинения в суде»? Представляется, что уравнивать их нельзя, поскольку поддержание обвинения в судебном заседании есть, строго говоря, отстаивание государственным обвинителем посредством «судоговорения», то есть дискуссии, обоснованного в ходе досудебного производства обвинительного тезиса следователя (дознавателя) по поводу, прежде всего, главного факта. Активное производство судебно-следственных действий («процессуальных действий познавательного характера») выходит за рамки рассматриваемой процедуры. В любом случае и при любом прочтении нормативная правовая регламентация полномочий прокурора в стадии судебного разбирательства в статье 246 УПК РФ представлена не очень вразумительно: «Государственный обвинитель, читаем в её пятой части, представляет доказательства и участвует в их исследовании, излагает суду свое мнение по существу обвинения, а также по другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства, высказывает суду предложения о применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания».
Из в целом неудачного содержания части 1 статьи 37 УПК можно заключить, что прокурор в рамках уголовного преследования вправе (лично) производить в том числе следственные действия на всем протяжении уголовного процесса, поскольку согласно пункта 56 статьи 5 УПК РФ уголовное судопроизводство представляет собой досудебное и судебное производство. Надо заметить, что пункт 3 части 2 статьи 37 УПК РФ3 в одной из прежних редакций говорил об этом прямо. Так чем же все-таки должен заниматься прокурор в досудебных стадиях уголовного процесса: уголовным преследованием, руководством оным или надзором за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования (а не органов уголовного преследования)? Элементы всех перечисленных форм уголовно-процессуальной деятельности прокурора в его «именной» статье (37) УПК РФ представлены в избытке. Комментировать подобные нормативные правовые декларации можно решительно по-разному, что, впрочем, и наблюдается. Однако не следует забывать старую аксиому о том, что в любом законодательстве присутствует лишь ма- лая толика мест, которые невозможно исказить толкованием. Ситуация осложняется, если толкованию подвергаются изначально порочные юридические конструкции, институты, равно как и отдельные, составляющие их нормы.
В виду изложенного представляется очевидным, что грамотное употребление в разрабатываемых проектах федеральных законов устоявшегося понятийного аппарата в состоянии более чётко расставить все точки над «i» в описанной здесь проблеме, избавив её будущих потенциальных исследователей от неизбежных добросовестных заблуждений.
Список литературы Феномен прокурорского руководства уголовным преследованием с позиций теории управления
- Михайлов А.И., Соя-Серко Л.А., Соловьев А.Б. Научная организация труда следователя. М.: Юридическая литература, 1974. С. 6- 7.
- Управление персоналом организации: учебник / под ред. А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА-М, 1997.
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка, 3-е изд., стереотипн. М.: АЗь, 1995.
- Смирнов А.Ф. Прокуратура и проблемы управления. М.: Криминологическая ассоциация, 1997.
- Гасанов Р.М. Организация работы районной прокуратуры в современных условиях (по материалам деятельности прокуратуры г. Москвы). М.: ИД «Камерон», 2006.