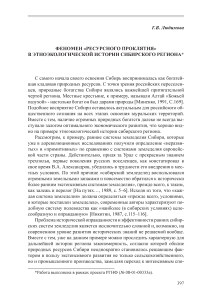Феномен «ресурсного проклятия» в этноэкологической истории Сибирского региона
Автор: Любимова Г.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XVI, 2010 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521661
IDR: 14521661
Текст статьи Феномен «ресурсного проклятия» в этноэкологической истории Сибирского региона
С самого начала своего освоения Сибирь воспринималась как богатейшая кладовая природных ресурсов. С точки зрения российских переселенцев, природные богатства Сибири являлись важнейшей притягательной чертой региона. Местные крестьяне, к примеру, называли Алтай «Божьей пазухой» - настолько богат он был дарами природы [Миненко, 1991, С.169]. Подобное восприятие Сибири оставалось актуальным для российского общественного сознания на всех этапах освоения зауральских территорий. Вместе с тем, наличие огромных природных богатств далеко не всегда выступало залогом оптимального экономического развития, что хорошо видно на примере этноэкологической истории сибирского региона.
Рассмотрим, к примеру, ранние системы земледелия Сибири, которые уже в дореволюционных исследованиях получили определение «неразвитых» и «примитивных» по сравнению с системами земледелия европейс -кой части страны. Действительно, придя за Урал с прекрасным знанием трехполья, первые поколения русских поселенцев, как констатировал в свое время В.А. Александров, убедились в трудности его внедрения в местных условиях. По этой причине «сибирский земледелец воспользовался огромными земельными запасами и повсеместно обратился к исторически более ранним экстенсивным системам земледелия», прежде всего, к таким, как залежь и перелог [На путях..., 1989, с. 5-6]. Исходя из того, что «каждая система земледелия» должна определяться «прежде всего, условиями, в которые поставлен земледелец», современные авторы характеризуют подобную систему полеводства как «наиболее (в сибирских условиях) целесообразную и оправданную» [Никитин, 1987, с.115–116].
Проблема исторической оправданности и эффективности ранних сибирских систем земледелия является исключительно сложной и, возможно, на современном уровне развития исторических знаний не решаемой вообще. Вместе с тем, уже на данном примере можно проследить характерную для дальнейшей истории региона закономерность, согласно которой обилие природных ресурсов Сибири неоднократно становилось решающим фактором в пользу экстенсивного развития не только сельскохозяйственного, но и промышленного производства, замедляя переход к интенсивным спо- собам ведения хозяйства. Указанная закономерность, выявленная на материалах современного экономического развития стран, богатых природными ресурсами (такими, как нефть, газ, уголь и пр.), получила название феномена «ресурсного проклятия».
Сам термин «ресурсное проклятие» был введен в начале 1990-х годов английским экономистом Ричардом Аути для объяснения парадоксального явления, связанного со значительным падением уровня жизни в странах-экспортерах нефти в 1970 - 1980-е годы. Тогда же было показано, что факт более медленного развития стран, богатых ресурсами, вполне согласуется и с результатами исторического анализа экономического роста: так, в XVII в. бедные ресурсами Нидерланды обогнали богатую драгоценными металлами Испанию, а в конце ХІХ - начале ХХ вв. Япония обогнала Россию [Гуриев, Сонин, 2008, с. 61]. При этом особо подчеркивалось, что изобилие природных ресурсов ведет к замедлению темпов экономического роста далеко не всегда, а лишь тогда, когда сочетается со слабыми политическими институтами [Полтерович и др., 2007, с. 4]. Поэтому, несмотря на попытки спекулятивного толкования (см.: [Лопатников, 2007]), основные выводы названной концепции могут, как представляется, быть экстраполированы на этноэкологическую историю сибирского региона.
Одной из причин обращения первых русских поселенцев «к исторически более ранним экстенсивным формам землепользования», как указывал В.А. Александров, была неэффективность применения в сибирских условиях такого органического удобрения, как навоз. Ввиду относительно высокого естественного плодородия почв и слабого развития процесса эрозии, писал автор, сибирская пашня не требовала немедленного удобрения. Более того, на унавоженных пашнях хлеб родился плохой и зарастал сорняками, бороться с которыми было удобнее, применяя залежную систему [На путях…, 1989, с. 6]. По наблюдениям современников, большинство сибирских крестьян были убеждены, что сибирские земли «не принимают удобрений»: повсеместно «считая навоз вредным для полей», старожилы «сбрасывали» его лишь на огороды [Липинская, 1998, с. 197].
Вместе с тем, причина подобных убеждений, по мнению ряда исследователей, крылась не в «слабой восприимчивости сибирской почвы к унавоживанию», а, скорее, в неумелом применении его. Названный вид удобрения, как установлено, хорошо зарекомендовал себя не столько на черноземах (где хлеб после внесения навоза забивался сорными травами), сколько на глинистых, малоплодородных почвах, а также на истощенных старопахотных землях [Миненко, 1991, с. 98 и др.]. Однако разработка свободных непаханых земель, как показал на примере Минусинского округа второй половины ХІХ в. В.А. Зверев, обходилась крестьянскому хозяйству дешевле, чем внесение удобрений на выпаханные участки [Зверев, 1985, с. 98].
Причиной забрасывания пашни в залежь, как уже упоминалось, могло быть не только истощение земли, но и зарастание ее сорняками. Применительно к условиям Восточной Сибири еще в середине ХІХ в. отмечалось такое изобилие земли, что всякий, по словам наблюдателя, «пашет, где ему вздумается… Вместо удобрения парят землю через год, а по прошествии 10 лет бросают пашню и принимаются за новую не потому, что бы она истощилась, но потому что покрылась сорными травами» [Липинская, 1998, с. 197]. Таким образом, в условиях многоземелья крестьянину было удобнее и дешевле периодически обновлять часть пашенных угодий, то есть, используя естественное плодородие почвы, «забрасывать выпаши в залежь и осваивать целину» [Миненко, 1991, с. 91, 101], а не переходить к интенсивным способам земледелия. Сходная картина наблюдалась и в сибирском животноводстве, экстенсивные формы которого с максимальным сроком содержания животных на естественных кормах (характерные и для местных кочевников-скотоводов), были обусловлено не только нехваткой рабочих рук, но и обилием свободных земель [Липинская, 1998, с. 214–215].
Еще более наглядным примером неэффективного использования природных ресурсов Сибири являются данные о развитии пушного промысла. Накануне первой мировой войны, как пишет французский исследователь Базиль Кербле, в сибирской тайге добывалось около 40% всей мировой пушнины, однако сама Россия выступала при этом как крупный импортер мехов. Не располагая развитой химической промышленностью, в том числе, производством красителей для окраски шкурок, страна вынуждена была закупать выделанный мех за границей. Такая торговая схема оборачивалась немалыми финансовыми потерями, поскольку после обработки меха стоили почти в три раза дороже. Не сумев развить соответствующие технологии, считает автор, Россия лишилась того достояния, которое составляло ее богатство как державы [Кербле, 2008, с. 178–180].
Выявленные стратегии взаимодействия с природной средой Сибири продолжают доминировать и в настоящее время, поскольку действующее экологическое законодательство, по оценкам экспертов, поощряет не использование наукоемких технологий, а ускоренную добычу и вывоз из региона природных ресурсов [Марков, 2001, с. 85–86]. Определяя современную парадигму развития российского общества как «ресурсную», «истощительную», О.Н. Яницкий отмечает ее тесную связь с концепцией «ресурсного проклятия»: до тех пор, пока в стране сохраняются крупные легкодоступные ресурсы (целинные и залежные земли, нефть, газ и пр.), политическое руководство не решается проводить качественную экономическую политику. В этом и заключается «проклятие богатства» [Яницкий, 2007, с. 56, 58].
Таким образом, одна из причин длительного отставания России от стран Запада заключается в неэффективном использовании природных ресурсов, богатейшей кладовой которых до настоящего времени остается сибирский регион. Сама же концепция «ресурсного проклятия» может быть полезной при анализе истории взаимодействия этнических и социальных общностей Сибири с природной средой.