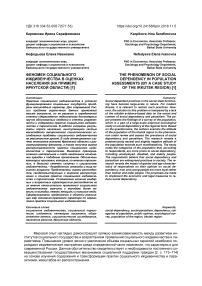Феномен социального иждивенчества в оценках населения (на примере Иркутской области)
Автор: Карпикова Ирина Серафимовна, Нефедьева Елена Ивановна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 11, 2018 года.
Бесплатный доступ
Практики социального иждивенчества в условиях функционирования социальных государств приобрели масштабный характер. Для современной России проблема ограничения данных проявлений весьма актуальна, но ее решение в определенной степени сдерживается недостатком достоверных научно обоснованных сведений о степени укорененности и содержании практик социального иждивенчества и паразитизма. В работе изложены результаты опроса населения, выступающего частью масштабного эмпирического социологического исследования проблемы социального иждивенчества на региональном уровне. В ходе анкетирования изучено отношение жителей Иркутской области к рассматриваемому феномену, а также получена оценка распространенности практик социального иждивенчества и паразитизма. Выявлено преимущественно нейтральное и слабо негативное отношение граждан к подобным проявлениям. Обозначены категории населения, которые, по мнению опрошенных, в большей степени склонны к социальному иждивенчеству, - безработные, инвалиды и лица пожилого возраста. Представлены оценки респондентов, свидетельствующие о широком распространении в социуме практик социального иждивенчества и паразитизма. Установлено влияние гендерных и возрастных характеристик респондентов на их мнение относительно проявлений социального иждивенчества: мужчины и молодежь более лояльны в выводах, нежели женщины и пожилые люди. Сформулированы предложения в области реализации мер экономико-правового характера по ограничению практик социального иждивенчества.
Социальное иждивенчество, социальный паразитизм, иждивение, категории населения, общественное мнение, социологическое исследование, население региона, иркутская область
Короткий адрес: https://sciup.org/149132701
IDR: 149132701 | УДК: 316.334.52-058.7(571.53) | DOI: 10.24158/tipor.2018.11.5
Текст научной статьи Феномен социального иждивенчества в оценках населения (на примере Иркутской области)
Мировой опыт наглядно демонстрирует прямую взаимозависимость между развитием институтов социального государства и возрастанием проявлений социального иждивенчества и паразитизма. Повышение уровня жизни и увеличение объема социальных гарантий неизбежно порождают иждивенческие настроения среди определенной части населения, что характерно и для современной России. Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости постоянного совершенствования государственных механизмов социальной поддержки граждан [2, с. 173–174] на основе изучения содержания и трансформации практик социального иждивенчества и паразитизма, масштабов их распространения.
Исследования феномена социального иждивенчества за рубежом весьма многочисленны, многоаспектны и опираются на обширную эмпирическую базу [3]. В России, несмотря на актуальность данной тематики, количество работ невелико, большинство из них посвящено рассмотрению феномена социального иждивенчества с историко-философских, исторических и социокультурных позиций [4]. Незначительная часть публикаций касается отдельных сторон проблемы социального иждивенчества относительно некоторых категорий населения [5]. В то же время для принятия управленческих решений в области социальной политики по сдерживанию распространения практик социального иждивенчества и паразитизма необходимы научные данные, основанные на эмпирических исследованиях, всесторонне характеризующих состояние проблемы.
По нашему мнению, подобные эмпирические исследования целесообразно проводить на уровне региона, поскольку в России комплекс социозащитных мероприятий, обеспечивающих питательную среду для социального иждивенчества и паразитизма, формируется главным образом на региональном уровне, а проблемы регионов при реализации социозащитных практик типичны.
В настоящее время нами в составе научного коллектива реализуется проект «Влияние идей патернализма на поведенческие стратегии: исследование практик социального иждивенчества и социального паразитизма отдельных категорий населения», центральной частью которого является масштабное эмпирическое исследование, осуществляемое в Иркутской области. Отличительной чертой выполняемой работы стало совместное использование качественных и количественных научных стратегий [6], что позволяет получить всестороннее представление о масштабах распространенности и укоренения, содержании и специфике практик социального иждивенчества и паразитизма в современном российском социуме. Экспертные оценки, данные руководителями и специалистами социозащитной сферы региона в ходе проведения качественного интервью и фокус-группы в сентябре – ноябре 2017 г., дополнены информацией, полученной от населения, выступающего субъектом реализации иждивенческих и паразитических социальных практик.
Количественное социологическое исследование в виде анкетного опроса граждан Иркутской области, посвященное разным аспектам проблемы социального иждивенчества, проведено в июле – сентябре 2018 г. Выборочная совокупность в 1 200 чел. стратифицирована по критериям пола, возраста и места проживания. Структура респондентов по данным признакам в целом соответствует демографическим характеристикам населения региона. Среди опрошенных женщины составили 57,5 %, мужчины – 42,5 %. Распределение участников анкетирования по возрасту выглядит следующим образом, %: до 30 лет – 21,6, от 30 до 50 – 38,6, старше 50 лет – 39,8. Доля респондентов, проживающих в городах, равна 78 %, в сельской местности – 22 %, при этом в выборочную совокупность вошли жители крупных, средних и малых городов.
Кроме соблюдения стратификационных признаков, для избранной исследовательской стратегии было важно обеспечить наличие в выборочной совокупности представителей тех категорий населения, которые являются получателями социальных благ и услуг от государства и гипотетически склонны в той или иной мере к проявлению социального иждивенчества. Поэтому в число объектов изучения вошли представители таких страт, как многодетные и неполные семьи, лица из числа детей-сирот, мигранты, инвалиды, пенсионеры и др.
Среди исследовательских задач опроса следует выделить выяснение отношения граждан к феномену социального иждивенчества, а также их оценку распространенности социального иждивенчества и паразитизма.
Необходимо остановиться на понимании респондентами содержания понятия «социальное иждивенчество». С данной целью был задан вопрос о сходстве либо различии категорий «иждивение» и «иждивенчество». В ходе опроса установлено, что большинство населения (68,4 % опрошенных) считает эти термины синонимичными, выбирая вариант ответа «для меня это одно и то же». Еще 16,8 % (среди которых больше женщин и лиц старших возрастных групп) полагают, что «у этих понятий есть разное и общее»; только 14,5 % отмечают разницу между ними – «считаю их абсолютно разными понятиями».
Респонденты, указавшие различия между категориями «иждивение» и «иждивенчество», соотнесли их как «необходимость, попечение» и «паразитизм, злоупотребление», как «вынужденная мера» и «умышленное поведение» соответственно. Некоторые из ответивших, поясняя разницу понятий, высказывались достаточно подробно: «первое – это выплаты нетрудоспособным (детям, пенсионерам, тяжелобольным), второе – нежелание работать при том, что есть возможность»; «первое означает жизнь за счет государства, а второе – за счет общества»; «первое – это люди, которые не могут себя содержать и находятся на попечении других, второе – люди, которые могут себя сами обеспечить, но не хотят»; «первое – человек находится на попечении кого-либо (инвалид, ребенок, пенсионер), а второе – осознанное тунеядство, есть возможность работать, нет желания, формируют потребительское отношение»; «первое – когда человек по объективным причинам не может сам себя обеспечить, а второе – когда человек без уважительной причины не хочет себя обеспечивать и пользуется ресурсами других».
Социальное иждивенчество участники исследования определили как «потребительский, паразитарный образ жизни взрослого трудоспособного человека, способного, но не желающего себя обеспечить самостоятельно»; «приспособление человека к жизни за счет других»; «стремление жить, рассчитывая на чью-то помощь, не прилагая собственных усилий для улучшения материального положения»; «нежелание самому себя обеспечивать, постоянное стремление человека жить за счет других» . Стоит отметить, что в ответах на открытые вопросы анкеты респонденты были достаточно активны, развернуто выражали свою точку зрения, что косвенно свидетельствует об интересе граждан к теме опроса.
К социальному иждивенчеству могут быть склонны представители разных категорий населения, по разным причинам и в разных масштабах использующие подобные практики. Важнейшей задачей опроса стало выявление таких страт. Отметим, что этот же вопрос задавался ранее в ходе экспертного интервью, поэтому особый интерес представляет сравнение мнений экспертов и населения (таблица 1).
Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос:
«Какие категории населения в большей степени склонны к социальному иждивенчеству?»
|
Категория |
Оценка экспертов [7, с. 169] |
Оценка населения |
||
|
Количество ответивших, % |
Ранг ответа |
Количество ответивших, % |
Ранг ответа |
|
|
Пожилые и престарелые люди |
13,9 |
4 |
14,6 |
3 |
|
Многодетные семьи |
5,7 |
6 |
9,6 |
5 |
|
Студенты |
3,3 |
7 |
9,4 |
6 |
|
Инвалиды |
22,1 |
2 |
15,3 |
2 |
|
Матери-одиночки (отцы-одиночки) |
0,8 |
8 |
3,1 |
8 |
|
Безработные |
15,6 |
3 |
20,6 |
1 |
|
Лица без определенного места жительства |
7,4 |
5 |
8,5 |
7 |
|
Дети, оставшиеся без попечения родителей (сироты) |
23,8 |
1 |
10,4 |
4 |
|
Мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы |
7,4 |
5 |
8,5 |
7 |
В ответах экспертов и респондентов из числа населения прослеживаются как сходства, так и различия. Оценки специалистов сконцентрированы на определенных категориях, тогда как рядовые опрошенные демонстрируют большее разнообразие при выборе вариантов ответов. Данное обстоятельство объясняется различиями в обыденном и профессиональном опыте, на котором основываются высказанные мнения.
В то же время ранжирование ответов, отражая различия в распределении мест между категориями (эксперты на первое место ставят детей-сирот, а обычные граждане – безработных), позволяет четко определить страты, которые являются лидерами в аспекте реализации иждивенческих практик, по мнению как специалистов, так и рядовых респондентов. К ним относятся инвалиды, безработные, дети-сироты, а также пожилые и престарелые люди. Показателен факт, что на последнее место по склонности к проявлению иждивенчества обе группы поместили такую категорию, как матери-, отцы-одиночки.
Кроме перечисленных категорий населения, респонденты отнесли к числу социальных иждивенцев лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также «тунеядцев», т. е. неработающих трудоспособных лиц в экономически активном возрасте.
В ответах на данный вопрос респондентов из числа населения выявлена некоторая зависимость оценок от возраста опрошенных. В значительной мере выбор члена определенной возрастной группы связан с той категорией лиц, склонных к социальному иждивенчеству, к которой он потенциально мог бы относиться по возрасту. Так, пожилых граждан в большей степени считают склонными к иждивенчеству участники исследования в возрасте от 50 лет; представителей многодетных семей – респонденты средней возрастной группы 30–39 лет; студентов и лиц из числа детей-сирот чаще всех относят к социальным иждивенцам опрошенные до 30 лет.
Считают ли сами себя социальными иждивенцами граждане, принявшие участие в опросе? На данный вопрос положительно ответили только 6,7 % респондентов, объясняя свою позицию рядом обстоятельств. Во-первых, в их числе есть трудоспособные лица, которые не работают по разным причинам и проживают за счет помощи со стороны родственников («временно без работы, но ищу работу»; «часто помогают родственники»; «денег не хватает, живем на помощь родителей, на их пенсию»; «на содержании у детей»; «пока учусь и живу на средства родителей»; «никогда не работал и не ищу работу»; «удовлетворяю потребности за счет близких родственников»). Во-вторых, среди людей, признавших себя социальными иждивенцами, выявлены те, кто нетрудоспособен частично или полностью и находится на иждивении у государства, получая различные социальные выплаты и пользуясь льготами. Анализ данных показывает, что среди признавших себя социальными иждивенцами трудоспособных гораздо больше, чем нетрудоспособных.
Отрицательный ответ на поставленный вопрос дали 58,1 % респондентов. Участники исследования, не считающие себя социальными иждивенцами, поясняют это следующим образом: «стараюсь работать и покрывать свои расходы сам»; «работаю и подрабатываю»; «всегда ищу возможности для дополнительного заработка»; «всегда самостоятельно работал и ни от кого не зависел»; «государство мне не помогает»; «не на кого надеяться, все знакомые и близкие в такой же ситуации»; «живу на доходы от трудовой деятельности»; «зарабатываю сам и помогаю другим»; «занимаюсь предпринимательством, чтобы иметь достаточный доход»; «заработали пенсию и ведем свое хозяйство»; «сам обеспечиваю себя и своих детей, не рассчитывая на государство». Еще 35,2 % опрошенных затруднились с ответом. Возможно, часть из них не желает признавать факт своего социального иждивенчества и уходит таким способом от ответа.
Помимо выражения самооценки респондентам было предложено ответить на вопрос, есть ли в их ближайшем окружении, среди родных, друзей и знакомых, лица, поведение которых можно отнести к социальному иждивенчеству и паразитизму. Как установлено в процессе исследования, мнения опрошенных по этому поводу разделились почти поровну. Утвердительных ответов о наличии у родных и друзей иждивенческого образа жизни оказалось 41,0 %, отрицательных – об отсутствии среди ближайшего окружения практик социального иждивенчества – 41,4, при этом 17,6 % затруднились с оценкой. Участники опроса, утвердительно ответившие на данный вопрос, указали на конкретные проявления социального иждивенчества среди родственников и знакомых (таблица 2).
Таблица 2 - Распределение ответов респондентов на вопрос: «В чем проявляются иждивенческие настроения и поведение среди вашего ближнего окружения?», %
|
Вариант ответа |
Количество ответивших |
|
Не работают, живут на материальную помощь родных |
25,9 |
|
Не работают, живут на социальную помощь государства |
20,0 |
|
Не работают, но ищут работу |
19,5 |
|
Живут на доход от случайных неофициальных заработков |
12,5 |
|
Работают неофициально, зарплату получают «в конверте», не платят налоги |
10,3 |
|
Работают, но живут не только на свой трудовой доход |
8,3 |
|
Другое |
3,5 |
Среди опрошенных, выбравших вариант ответа «другое», наиболее часто встречались следующие высказывания по поводу проявления иждивенчества со стороны друзей и родных: «употребляют алкоголь»; «не работают и не хотят искать работу».
Почти половина респондентов (47,3 %) определили личное отношение к людям, склонным к социальному иждивенчеству и паразитизму, как нейтральное и безразличное, 33,5 % относятся к таким людям негативно. Крайние оценки присущи незначительному количеству опрошенных: агрессивное отношение выразили 2,3 %, примерно столько же (2,9 %) относятся к лицам, проявляющим иждивенческие настроение и поведение, положительно и даже с одобрением их жизненной позиции. Затруднились с ответом на данный вопрос 14,0 % участников исследования. Среди людей с нейтральной оценкой превалируют мужчины и молодежь, а негативное отношение больше свойственно респондентам старших возрастных групп и женщинам.
В анкету был включен ряд вопросов, позволяющих уточнить ранее высказанные позиции участников опроса об их отношении к проявлениям социального иждивенчества в обществе. Например, на вопрос о возможности и необходимости введения в Административный кодекс РФ статьи «за тунеядство» были даны следующие ответы, %: 40,6 поддерживают данную инициативу, несколько больше, 32,3, высказались за недопустимость ее введения, 27,1 затруднились с ответом. Распределение отвечавших по возрасту показало, что респонденты старших возрастов активно поддерживают предложенную идею, а опрошенные из числа молодежи, напротив, в меньшей степени согласны с перспективой введения санкций за тунеядство.
Полученные результаты позволяют сделать ряд выводов. Во-первых, в обыденном сознании отсутствует четкий водораздел между понятиями «иждивение» и «иждивенчество», что, однако, не мешает гражданам на интуитивном уровне определять свое отношение к практикам социального иждивенчества и лицам, склонным к их применению, которое преимущественно носит нейтральный либо слабо негативный характер.
Во-вторых, граждане признают широкое распространение в обществе практик, характеризующих иждивенческие позиции некоторых представителей социума, – более 40 % опрошенных отметили, что в их ближайшем окружении присутствуют социальные иждивенцы, хотя по отношению к самим себе респонденты относятся менее критично. Среди категорий населения, в большей степени подверженных влиянию иждивенческих установок, были в первую очередь названы безработные, инвалиды и престарелые.
Наконец, при проведении опроса были выявлены гендерные и возрастные различия в оценках участников. Общая тенденция выглядит следующим образом: мужчины и респонденты молодого возраста более терпимы к проявлениям социального иждивенчества, осуждают его в меньшей степени, чем женщины и пожилые люди, что объясняется различиями жизненного опыта и современными гендерными социальными ролями. В то же время лояльность молодежи к иждивенческим поведенческим установкам является для социума тревожным симптомом, поскольку в ближайшем будущем без должного внимания общества может обернуться расширением поведенческих деформаций и даже девиаций.
Данные населением и экспертами оценки ситуации с распространением феномена социального иждивенчества позволяют определить некоторые направления деятельности по его ограничению, находящиеся в экономико-правовом поле. В сфере труда и занятости необходима активизация усилий по выявлению и противодействию теневой (неформальной) занятости и, соответственно, сокрытию трудовых доходов, неуплате налогов. Также весьма актуально явление «скрытой» безработицы, состоящее в отсутствии стремления искать работу или неготовности к ней приступить, что требует формирования механизма установления и ограничения подобных практик в системе содействия занятости.
Значительные возможности по ограничению иждивенческих поведенческих стратегий содержатся в усовершенствовании нормативно-правовой базы. Прежде всего необходимо перевести из морально-этической плоскости в правовую понятие «иждивенчество» как основание при определении санкций и превентивных мер по отношению к лицам с иждивенческим и паразитическим образом жизни.
Требуется пересмотр нормативно-правовых основ для реализации некоторых социозащит-ных мер. Существующие на сегодняшний день противоречия и недоработки в законодательстве о социальных правах и гарантиях отдельных категорий граждан дают возможность формирования иждивенческих практик. Примером является реализация прав детей-сирот в области содействия их занятости и профессионального образования, а также их жилищных прав. Кроме того, в целях профилактики практик социального иждивенчества среди категорий населения, склонных к их проявлениям, необходима модификация условий предоставления и размеров получаемых ими региональных социальных выплат.
Ссылки и примечания:
(2).165-177.
Список литературы Феномен социального иждивенчества в оценках населения (на примере Иркутской области)
- Седых О.Г. Социальное иждивенчество: причины возникновения и историческая ретроспектива // Историческая и социально-образовательная мысль. 2018. Т. 10, № 3-1. С. 172-178.
- Bradshaw J., Mayhew E. Public Attitudes to Dependency and the Welfare State // International Journal of Market Research. 2004. Vol. 46 (4). P. 49-64. DOI: 10.1177/147078530404600109
- Kathy D. Breaking the Cycle: Welfare Dependency and Family Planning // Policy & Practice of Public Human Services. 2002. Vol. 6, no. 4.
- Younes M. Three Welfare Recipients: the Journey from Dependency to Self-Sufficiency. Lincoln, 1996.
- Zinn D. Welfare Dependency as the Language of Social Control // Sage Sourcebooks for the Human Services Series. 1987. Vol. 4. P. 216-257.
- Жмакина М.О. Социальное иждивенчество как результат политики социального государства в современном российском обществе // Социология в современном мире: наука, образование, творчество. 2014. № 6. С. 399-403.
- Мосейко В.В., Фролова Е.А. Социальное государство vs социальное иждивенчество // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2014. № 8 (149). С. 102-107.
- Сидорина Т.Ю. Операция Welfare State: решило ли государство всеобщего благосостояния проблемы идеального государства? // Terra economicus. 2012. № 3. С. 84-99.
- Шаровская А.В. Социальное иждивенчество как проявление проблемы самоактуализации личности общества потребления // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 10-1. С. 205-208.
- Басин М.А., Хаидов С.К. Иждивенческая позиция личности маргинальной женщины, находящейся в трудной жизненной ситуации, как негативный фактор социализации ребенка // Психическая депривация детей в трудной жизненной ситуации: образовательные технологии профилактики, реабилитации, сопровождения. М., 2013. С. 125-134.
- Седых О.Г. Взаимодействие власти и бизнеса в решении жилищных проблем детей-сирот как механизм контроля и сдерживания социального иждивенчества // Baikal Research Journal. 2018. Т. 9, № 2. С. 10. (2).10.
- DOI: 10.17150/2411-6262.2018.9
- Шевелева Н.П., Кузнецов И.С. Предпосылки формирования социального иждивенчества в среде российской молодежи // Теория и практика общественного развития. 2015. № 18. С. 21-23.
- Бахматова Т.Г. Исследовательский потенциал количественного и качественного подходов в социальной работе // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). 2010. № 5. С. 28-35.
- Карпикова И.С., Нефедьева Е.И., Седых О.Г. Социальное иждивенчество и паразитизм в продуцировании противоправного поведения // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12, № 2. С. 165-177. (2).165-177.
- DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12