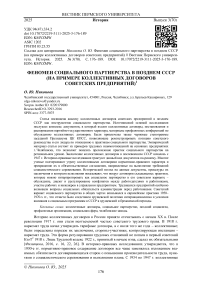Феномен социального партнерства в позднем СССР (на примере коллективных договоров советских предприятий)
Автор: Никонова О.Ю.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История СССР
Статья в выпуске: 3 (70), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу коллективных договоров советских предприятий в позднем СССР как инструментов социального партнерства. Источниковой основой исследования послужил комплекс документов, в который входят коллективные договоры, постановления и распоряжения партийно-государственного характера, материалы профсоюзных конференций по обсуждению коллективных договоров. Были привлечены также черновые стенограммы заседаний Президиума ЦК КПСС, позволяющие реконструировать позицию советского руководства и его лидера по отношению к практикам социального партнерства. Эмпирический материал статьи состоит из примеров трудовых взаимоотношений на основных предприятиях г. Челябинска, что позволяет показать преломление практик социального партнерства на региональном уровне. Заключение коллективных договоров в послевоенном СССР началось с 1947 г. Историко-правовые исследования трактуют данный вид документов по-разному. Многие ученые подчеркивают утрату коллективными договорами нормативно-правового характера и превращение их в обязательственные соглашения, направленные на выполнение требований социалистического соревнования. Исторический взгляд на данные документы, процедуры их заключения и контроля исполнения показывают, что вокруг договоров складывались практики, которые можно интерпретировать как социальное партнерство в его советском варианте – обсуждение, диалог и урегулирование конфликтов между работодателями и работниками, участие рабочих и инженеров в управлении предприятием. Трудящихся предприятий особенно волновали вопросы социальных обязательств администрации перед работниками. Советский вариант социального партнерства в общих чертах вписывался в европейские практики 1950 1970-х гг., что отчасти было следствием хрущевской политики интернационализма и усиления внимания к социальным программам в СССР в хрущевский и брежневский периоды.
Коллективные договоры, социальное партнерство, поздний социализм, профсоюзные организации, социальная сфера, челябинские заводы, коллективные договоры, социальное партнерство, поздний социализм, профсоюзные организации, социальная сфера, челябинские заводы
Короткий адрес: https://sciup.org/147252192
IDR: 147252192 | УДК: 94(47).334.2 | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-3-176-189
Текст научной статьи Феномен социального партнерства в позднем СССР (на примере коллективных договоров советских предприятий)
договоры на советских предприятиях не заключались вообще, что противоречило действовавшему Трудовому кодексу3. По мнению исследователей, это было связано с процессом огосударствления профсоюзов, укреплением сталинской командно-административной системы и репрессиями, в том числе против теоретиков и практиков трудового права [ Филипцова , 2016, с. 27–28; Сафонов , 2023, с. 72–73; Лушникова , Лушников , 2006, с. 57–62].
Возврат к практике заключения коллективных договоров в послевоенный период стал частью процесса гуманизации советского трудового законодательства. 4 февраля 1947 г. Совет министров (СМ) СССР одобрил инициативу ВЦСПС по возобновлению договорных отношений между администрацией и коллективами трудящихся на предприятиях с целью «выполнения и перевыполнения производственных планов, дальнейшего роста производительности труда, улучшения организации труда, а также повышения ответственности хозяйственных и профсоюзных организаций за улучшение материально-бытовых условий и культурного обслуживания рабочих, инженерно-технических работников и служащих предприятий» (Решения партии и правительства…, 1968, с. 380–381).
Насколько формальными были коллективный договор, процедура его заключения и контроля исполнения? Какие социальные практики сопровождали этот элемент трудовых отношений? Можно ли считать коллективные договоры частью социального партнерства? Рассмотрим эти вопросы на примере позднесоветского общества, а именно в период окончания эпохи Хрущева и начала брежневского этапа.
Научное изучение коллективных договоров представлено в основном трудами правоведов. Информацию общего характера можно обнаружить в учебных изданиях по трудовому праву. Историко-правовые экскурсы фактически воспроизводят советский взгляд на коллективные договоры ( Пашерстник , 1951), трактуют их как «морально-политические документы», которые выполняли преимущественно идеологическую функцию [ Ширинкина , 2006, с. 17; Киселев , 2005, с. 54–55]. Коллизия возникает, когда обнаруживается факт упоминания коллективных договоров в работах о феномене социального партнерства [ Сафонов , 2023; Петров , 2023], что ставит под сомнение исключительно политический характер документа.
Что же такое социальное партнерство? Современное толкование, основанное на Трудовом кодексе РФ, предполагает следующее: «Коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений; взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; участие работников, их представителей в управлении организацией; участие представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров» [ Кудрин С.М. , Кудрин А.С ., 2010, с. 65]. Европейский фонд по улучшению условий жизни и труда трактует социальное партнерство как социальный диалог между представителями менеджмента и труда (организаций работодателей и профессиональных союзов) и публичной власти (трипартизм). Социальное партнерство играет ключевую роль в трудовых отношениях, а партнеры – основные игроки промышленных отношений. Они влияют на условия труда, воздействуют на социальную политику через коллективные соглашения или трипартизм4.
Социальное партнерство, корпоративизм или policy concertation5 в Западной Европе появились в конце XIX в. и достигли расцвета во второй половине ХХ в. В различных национальных формах социальное партнерство наиболее динамично развивалось с конца 1950-х до конца 1970-х гг. Причинами были рост популярности либерально-демократических взглядов, увеличение политического веса тред-юнионов и рабочих партий. Важную роль играла институционализация форм и методов согласования политики за счет появления специализированных организаций [Policy Concertation…, 2002, p. 335–352] – например, консультативного комитета по экономическим и социальным вопросам в Австрии или национального комитета экономического развития или комитета по ценам в Великобритании [Ibid., table 22.1]. Интернациональным инструментом продвижения социального партнерства была Международная организация труда (МОТ), базовым принципом которой был трипартизм. МОТ занималась разработкой норм меж- дународного трудового законодательства, инструментов контроля национальных и международных трудовых отношений, сбором статистических данных о состоянии рынка труда и рабочего законодательства [Шитов, 2018]. Она была организацией, которая активно интересовалась процессами модернизации в странах третьего мира, предоставляла поддержку и техническое содействие государствам, освободившимся от колониальной зависимости [Maul, 2009].
В 1954 г. советское руководство приняло решение о возобновлении членства страны в Международной организации труда ООН6 и ратифицировало некоторые ее конвенции [ Osakwe , 1972, p. 68; Шитов , 2018, с. 85–86]. Обе стороны – СССР и МОТ – имели свои политические резоны и тактические размышления. Д. Мауль отмечает, что руководство МОТ учитывало интерес развивающихся стран к советскому опыту модернизации, перехода от аграрного к индустриальному обществу [ Maul , 2009, p. 369]. Партийно-государственное руководство в СССР, в свою очередь, рассматривало МОТ как крупную площадку для взаимодействия с некоммунистическими странами [ Osakwe , 1972, p. 87]. С 1954 по 1972 г. СССР ратифицировал 40 из 130 конвенций МОТ, что, с одной стороны, было меньше, чем результаты Великобритании (65) или Франции (80), но намного больше, чем США (7). В. Шитов называет ратифицированные конвенции «техническими», но признает, что «их положения позволяли модернизировать если не советское законодательство, то правоприменительную практику в сфере трудовых отношений, администрирование и инспекцию труда» [ Шитов , 2018, с. 86]. Осакве, подробно разбирая каждую ратифицированную конвенцию, подчеркивает, что советское законодательство опережало некоторые конвенции по степени защищенности трудящихся и размерам государственных социальных «услуг» [ Osakwe , 1972, p. 76–86]. Анализируя позицию СССР в МОТ на протяжении 1950–1960-х гг., автор отмечает, что ее вряд ли можно назвать «аутсайдерской». Скорее речь шла об «активном инсайдере», влиявшем на рабочую повестку организации. Возвращение СССР в Международную организацию труда сразу спровоцировало среди участников дискуссию о соответствии советского представительства принципу трипартизма. Несмотря на то что среди членов МОТ было достаточно критиков советской системы, борьбу за расширенное толкование принципа трипартизма СССР в конечном итоге выиграл [Ibid., p. 75, 87–88]. Сюжет с МОТ показывает, что советские трудовые отношения в 1950–1960-е гг. вызывали интерес и были предметом обсуждения в профильной международной организации.
Внутри страны тема труда в это время также была предметом серьезных размышлений. Экономисты, социологи и заводская администрация были заняты поиском механизмов увеличения эффективности промышленного производства, методов борьбы с главными проблемами советской экономики в сфере труда: текучкой кадров, низкой трудовой дисциплиной и мотивацией и, как следствие, падением производительности труда рабочих на предприятиях [Соколов, 2003, 2010; Маркевич, 2005]. В стране развивалась заводская социология, на многих предприятиях были созданы социологические лаборатории, где разрабатывались теоретические и прикладные аспекты трудовой мотивации и социального планирования [Галкин, 2022; Щербина, 2008; Качайнова, 2016]. Развитие практик социального партнерства, которые тогда не осмысливались с использованием данного термина, также было призвано решать насущные проблемы советской экономики, связанные с ее неэффективностью. Одновременно это было частью более масштабного процесса расширения социальных функций предприятий и формирования элементов социального государства в СССР [Иванова, 2011, 2015], что историки связывают с реализацией косыгинской реформы 1965 г. Данная реформа давно стала предметом дискуссии в историографии, историки спорят о степени ее эффективности. Традиционно положительные оценки критикуют исследователи, называющие ее успех кратковременным и ограниченным, «статистической иллюзией» [Ханин, 2020; Упущенный шанс…, 2019, с. 42; Соколов, 2004, с. 110]. Таким образом, анализируя коллективные договоры, мы наталкиваемся не только на противоречивые толкования данных документов, но и на более масштабный исторический вопрос о характере трудовых отношений и экономических процессов в позднесоветском СССР. При его рассмотрении необходимо учитывать не только нормативно-правовую основу, но и социальные практики, возникавшие в поле применения законодательства. Практики формировались в условиях действия структурных факторов (экономики), а также под влиянием куль- турных паттернов (например, патерналистских отношений в производственных коллективах предприятий) [Лебский, 2021]. Полезно учесть специфику производства «коллективизма» в эпоху Н. С. Хрущева. О. Хархордин считает, что переосмысление роли и значения коллектива в советском обществе было в это время гораздо более интенсивным, чем при И. В. Сталине [Khar-khordin, 1999, p. 297–328]. Коллектив конструировался как инстанция социального контроля и воспитания, в том числе в сфере экономических отношений. Он акцентирует внимание преимущественно на контролирующих и «карательных» функциях коллективов. Нам же представляется, что трудовой коллектив в СССР функционировал более сложно, выступая и как инструмент реализации интересов трудящихся, прежде всего социально-экономического характера.
Таким образом, исторический анализ коллективных договоров в послевоенном СССР позволяет включить данный вид источников в научную дискуссию о сути трудовых отношений. Конкретно-исторический материал дает возможность оценить перспективы применения понятия «социальное партнерство» к взаимоотношениям на советских предприятиях, провести ревизию представлений о всеобъемлющем контроле партии и государства над «молчаливой массой трудящихся» и социальном государстве, выстраиваемом «сверху вниз». Не только события в Новочеркасске 1962 г., но и повседневные практики трудовых отношений предполагали наличие более многогранных социальных связей и механизмов взаимодействия акторов в советском обществе, которые позволяли альтернативными западным обществам путями достигать сходных результатов.
Источниковую основу исследования составили материалы коллективных договоров челябинских предприятий периода позднего социализма, а также стенограммы конференций трудовых коллективов по обсуждению вопросов выполнения коллективных договоров и их заключения. Дополнительные сведения по вопросу о реализации прав работников предприятий, записанных в коллективных договорах, дали протоколы заседаний заводских комитетов. Источниками, позволяющими увидеть идеологическое обоснование договоров, являются методические материалы по их заключению, издававшиеся в советский период. «Взгляд сверху» – точку зрения советского руководства на трудовые отношения – раскрывают черновики стенограмм заседаний Президиума ЦК КПСС.
Для детального анализа социальных практик были взяты коллективные договоры крупных челябинских предприятий (Челябинского металлургического завода (ЧМЗ), Челябинского тракторного завода (ЧТЗ), Челябинского электролитно-цинкового завода, завода дорожных машин им. Колющенко, завода «Сельмаш» (позднее ПО «Сигнал»), Челябинского автоматномеханического завода (АМЗ)) в 1964–1970 гг., т.е. соглашения, заключенные накануне косы-гинской реформы и до окончания восьмой пятилетки. Это позволяет оценить их функцию в момент динамичных экономических реформ. Одновременно это повод взглянуть на общую дискуссионную проблему – значение косыгинской реформы для советской экономики – из ракурса взаимоотношений в сфере труда. Поскольку коллективные договоры данного периода были унифицированы, можно экстраполировать локальный уральский материал на общесоюзные процессы.
Структура и содержание коллективных договоров сформировались в первые годы советской власти [Сафонов, 2003, с. 61] и сохранялись без существенных изменений на протяжении всего советского периода. В декрете СНК от 2 июля 1918 г. «О порядке утверждения коллективных договоров (тарифов), устанавливающих ставки заработной платы и условия труда» говорилось, что в коллективном договоре должны быть указаны стороны, заключающие договор, сроки его действия, контролирующие органы, а также порядок приема и увольнения рабочих, нормировка рабочего времени, размеры и порядок установления оплаты труда, норм выработки, порядок пользования квартирами, столовыми и одеждой (Собрание узаконений…, 1942, с. 649–650). Позднесоветские коллективные договоры в целом описывали эти же элементы трудовых отношений. Вместе с этим они имели свою специфику: были четко структурированы, содержание разделов предписывалось директивными письмами ЦК профсоюзов и министерствами. Чаще всего документ представлял собой сброшюрованный печатный текст, нередко в твердом переплете. После его принятия на профсоюзной конференции договор печатался в че- тырех (иногда больше) экземплярах, один из которых направлялся на утверждение в центральный совет (комитет) отраслевого профессионального союза и соответствующее министерство, в годы хрущевской экономической реформы - в областной совет профсоюза и совнархоз. Договоры предприятий Челябинской области в это время, например, регистрировались в Совете народного хозяйства Южно-Уральского экономического района. Коллективные договоры нередко начинались эпиграфом. Это могли быть цитата из трудов В. И. Ленина («Производительность труда - это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового общественного строя»), лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», строчка из постановлений текущего съезда партии. Вводная часть договора содержала указание на достигнутые в предыдущий год результаты и ритуальные фразы о выполнении решений партии и правительства, взятии обязательств к новому съезду или важной юбилейной дате (например, 50-летию Великой Октябрьской революции и 100-летию со дня рождения Ленина). Открывался документ разделом с конкретными параметрами по выполнению производственного плана. Последующие разделы, как правило, отражали общие тенденции социально-экономической политики советского правительства: нормы социалистического соревнования, движения коммунистических бригад, пункты о рационализаторстве и научно-техническом прогрессе - в зависимости от года заключения договора. В этом отношении любой коллективный договор - «зеркало» идеологического обоснования экономических решений в СССР. По завершении первой (самой формализованной) части коллективных договоров тексты документов наполнялись описанием взаимоотношений между администрацией и трудовым коллективом предприятия. Эти разделы регламентировали аспекты, которые и составляли предмет социального партнерства: вопросы тарификации, повышения квалификации и ученичества, охраны и безопасности труда, социального обеспечения работников и социально-культурных мероприятий.
Иногда к договорам подшивались протоколы разногласий между администрацией и заводским комитетом, возникавших в процессе обсуждения договора на профсоюзной конференции. Например, спорные пункты были зафиксированы на конференции завода «Сельмаш»7 при заключении договора на 1964/65 гг. (ОГАЧО. Ф. Р-1568. Оп. 2. Д. 61. Л. 6). Коллективный договор на 1964 г. между работниками и администрацией Челябинского металлургического завода был зарегистрирован в Центральном комитете профсоюза рабочих металлургической промышленности и Министерстве черной металлургии с изменениями, внесенными по результатам протокола о разногласиях (ОГАЧО. Ф. Р-1596. Оп. 1. Д. 136. Л. 70). Эти и другие случаи свидетельствуют о существовании процедуры согласования мнений.
Большинство коллективных договоров содержат приложения, например: списки вредных профессий с повышенными тарифами заработной платы, должностей, имевших право на дополнительный отпуск. Иногда к ним подшивались сметы на строительство культурносоциальных объектов.
Методологическим импульсом для изучения коллективных договоров послужили размышления П. Бурдье о социальных практиках. В особенности его идеи об обусловленности социальных практик социальным опытом прошлого и «условиями существования». Анализируя комплекс диспозиций, свойственный индивидуумам и группам, который Бурдье называет «габитусом», он отмечает: «...прочно усвоенные диспозиции в отношении возможного и невозможного, свобод и необходимостей, попущений и запретов, вписанных в объективные условия..., порождают диспозиции, объективным образом совместимые с данными условиями и в некотором роде заранее адаптированные к их требованиям. Наиболее невероятные практики исключаются еще до какого-либо рассмотрения как немыслимые посредством того непосредственного подчинения порядку, который заставляет делать из нужды добродетель, т.е. отказываться от невозможного и хотеть неизбежного» [ Бурдье, 2001, с. 104]. Лирическое обозначение габитуса как «нужды, ставшей добродетелью», помогает интерпретировать осторожные «маневры» советских граждан в сфере их трудовых будней, когда борьба за улучшение условий работы, социальные льготы и привилегии шла в полном соответствии с предложенными идеологическими рамками и прошлым опытом полупринудительного труда в военные годы. Подконтрольная «свобода» габитуса, не допускающая «ни создания чего-либо невиданного нового, ни простого механического воспроизводства изначально заданного», все же привлекает внимание именно своим «ограниченным творчеством». С этой точки зрения, практики рабочих и служащих по организации трудовых отношений на предприятии – это нащупывание барьеров и границ и попытка их преодоления в достаточно жесткой идеологически регулируемой системе взаимоотношений. История с коллективными договорами позволяет увидеть «творческое» переосмысление заданных идеологических схем в условиях реальных экономических и социальных отношений. Отношений, где партия и идеология, стирающая все противоречия и объединяющая управленцев, инженеров, профсоюзных лидеров и рядовых рабочих в единый советский коллектив, оказывается внешним «фасадом», в реальной жизни администрация является до известной степени «антагонистом», а профсоюзы – передаточным механизмом, то сотрудничающим с администрацией, то защищающим трудящихся от чрезмерного давления и произвола. В рамках такого толкования социальное партнерство на советских предприятиях предстает инвариантом универсального институционального механизма регулирования сферы труда.
Обратимся к конкретно-историческому материалу, на основании которого можно реконструировать элементы социального партнерства на советских предприятиях. В марте – апреле 1964 г.8 на большинстве предприятий страны были заключены коллективные договоры на 1964/65 гг. «Двойной год» на титульном листе коллективных договоров объясняется экспериментами хрущевского руководства с планированием и корректировкой контрольных цифр семилетки. 7 декабря 1963 г. Совет министров СССР принял постановление «О плане развития народного хозяйства СССР на 1964–1965 годы» (В Совете Министров СССР, с. 1; Президиум ЦК КПСС…, 2008, с. 622–623). Выполняя постановление, все звенья хозяйственной инфраструктуры государства принялись за корректировку своих контрольных цифр, что нашло отражение в коллективных договорах предприятий. Экономическая реформа 1965 г. предполагала поэтапный переход на хозрасчет и связанные с ним изменения в финансировании предприятий. В числе участников экономического эксперимента первой волны оказался Челябинский автоматно-механический завод. Отчет директора завода о выполнении коллективного договора за десять месяцев 1965 г. показывает, что новая политика сразу стала предметом обсуждения. Конференция по итогам выполнения коллективного договора была использована руководителем предприятия для проведения «разъяснительной работы» об основах изменений. Он остановился на введении министерств, отметив, что в профильном министерстве сразу сдвинулся с мертвой точки вопрос о строительстве новых цехов завода. Директор позволил себе критику, отметив, что «...госкомитеты были, по существу, бесправными органами, а в совнархозах с их многоотраслевым хозяйством не имелось достаточного количества хороших специалистов по отраслям производства» (ОГАЧО. Ф. Р-1243. Оп. 4. Д. 27. Л. 130–132). Затем объяснил рабочим, что означает прибыль и почему увеличение доходов предприятия от прибыли выгодно и обещает рост материального стимулирования рабочих. Директор привел пример 1964 г., когда прибыль, принесенная заводом государству, составила 4 млн рублей, а в фонды предприятий поступило лишь 160 тыс. рублей. «По существу, – резюмировал он, – заинтересованности в увеличении прибылей у коллектива не было, увеличение же прибылей практически не сказывается на заработной плате трудящихся» (Там же. Л. 147–148). Затем руководитель предприятия объяснил, как за счет прибыли будет формироваться фонд материального поощрения при новых условиях хозяйствования. Разъяснение сути экономической реформы понятным языком имело для директора и рабочих вполне прикладной смысл: директор надеялся мотивировать коллектив на повышение производительности труда, рабочие понимали, какие аргументы нужно использовать, чтобы добиваться своих целей в диалоге с администрацией.
Как отмечает А. К. Соколов, нарастание противоречивых тенденций в сфере экономики и трудовых отношений становится очевидным со второй половины 1950-х гг. Желание правительства интенсифицировать производство и увеличить производительность труда конфликтовало с политикой сдерживания материальных стимулов, идеологически обусловленным поддержанием уравнительности в оплате труда. Несмотря на это, наблюдался постепенный рост средней заработной платы в стране, формировались черты общества потребления [Соколов, 2004, с. 107–110]. Вероятно, Н. С. Хрущев осознавал сложность создавшейся ситуации, особен- но после событий в Новочеркасске 1962 г. На заседании Президиума ЦК 20 сентября 1962 г., посвященном вопросам улучшения партийного руководства промышленностью и сельским хозяйством, первый секретарь с примерами из собственного опыта описывает свое понимание положения в советской экономике. «Сейчас что главное в промышленном производстве? – говорил Хрущев, переходя к вопросам промышленности. – Это освоение капиталовложений и обеспечение роста производительности труда. У нас главный прирост идет не через увеличение капиталовложений, а путем поднятия производительности труда. Поэтому вопросы производительности труда, а это нормы выработки, это важнейший вопрос, товарищи. Я бы сказал, что это вопрос не только директора завода, фабрики. Это вопрос партийной организации, это вопрос профсоюзов. Я должен сказать, что за последнее время партийные организации утратили вкус к этим вопросам […] Я помню, в то время, когда я работал на Петровке, был у нас один Хомяков, он был коммунист. Усы такие – кольцами были завиты. Неплохой парень. Очень энергичный был. Бывало, когда мы пересматриваем нормы и расценки, то я знал, что Хомяков будет больше всех портить кровь. Другой раз я вызывал его в райком, другой раз сам ходил к нему. Поговоришь с ним. Он скажет – все ясно, все понятно. А как вышел на партийное собрание, так Хомяков колесит что думает. Он не был врагом. Это был хороший человек. Если его на войну против врага призвать, он пойдет в бой и будет драться за Советскую власть, но в вопросе нормирования и расценков, – тут уже другое дело. У нас сейчас особенно разительный пример показало злосчастное дело в Новочеркасске. Когда там пересматривали нормы и приурочили пересмотр норм к повышению цен на мясо. Здесь, видимо, дурашливый директор оказался, он совершенно неправильно отнесся к этому делу, когда ему об этом в партийной организации сказали, он заявил: “Ну, что ж, дорого будет мясо покупать, будешь есть капусту”. Это только враг мог так сказать» (Президиум ЦК КПСС…, 2003, с. 358). Далее Хрущев привел еще один пример из своих личных встреч – беседу с кузнецом, который сам был готов подсказать вышестоящим контролирующим органам, как правильно устанавливать расценки. Подводя итог своим размышлениям, советский лидер произнес фразу, которая, по сути, свидетельствует о том, что он считал механизмы партнерства частью трудовых отношений: «С большинством рабочих можно договориться. Можно с ним поговорить, изыскать, а может быть, другой раз и помочь, как можно найти возможности повышения производительности и пересмотра норм и расценок. Без этого движения вперед не может быть. Надо это сделать так, чтобы не снизить заработок рабочего. К этому нам сейчас надо вернуться и привить этот вкус в партийных организациях, тогда будет лучше связь с рабочими, и будут лучше решаться вопросы, которые сейчас поставлены ХХII съездом партии. Отсюда повышение производительности труда, благосостояние народа, потому что только на основе производительности труда можно добиться накопления средств, которые будут использованы для повышения благосостояния» (Там же, с. 359). Любопытным в высказывании Хрущева является не только множество примеров из личного опыта, но и акцент на возможности переговоров с рабочими, даже наиболее «активными» и нон-конформистски настроенными, отказ от сталинской риторики классовой борьбы и врагов народа.
Коллективные договоры также показывают, что на локальном уровне проблема производительности труда, тарифов и переговоров с рабочими наполнялась конкретным содержанием, переплеталась с нормативным регулированием и диалоговыми социальными практиками. Все коллективные договоры челябинских предприятий, заключенные в 1964–1970 гг., содержат раздел, посвященный вопросам тарификации и нормирования труда, практически идентичный по своему содержанию. Основной идеей раздела было повышение производительности труда путем его интенсификации – пересмотра норм выработки за счет внедрения рационализаторских предложений и механизации труда, внедрения сдельных форм оплаты, доплат за совмещения основных и вспомогательных функций, премирования. Как показывает анализ стенограмм профсоюзных конференций, данный раздел редко вызывал вопросы и критику со стороны участников мероприятий. Кажется, вот подтверждение бессильного «молчания» и вынужденного «равнодушия» работников к основному источнику собственного благосостояния. Однако можно посмотреть на это с другой стороны. До 1966 г. возможности сторон, заключавших коллективный договор, по регулированию заработной платы были ограниченными. Размеры тарифных ставок и порядок их применения определялись общесоюзными документами, хотя постановление СМ СССР и ВЦСПС от 6 марта 1966 г. «О заключении коллективных договоров на предприятиях и в организациях» несколько расширило права администрации и профсоюзов, разрешив установление локальных договорных норм [Петров, 2023, с. 38]. Исследования мотивации труда в СССР показывают, что стимулирование с помощью заработной платы в 1950–1970-е гг. было неэффективным из-за несовершенства системы тарификации труда, стремления администрации предприятий сдерживать рост норм выработки для гарантированного выполнения требований соцсоревнования, манипулирования правилами применения сдельных форм оплаты труда и присвоения разрядов с целью увеличения общего заработка работников и их удержания на заводе [Разгон, Прибыткова, 2022]. Поэтому рабочие использовали другую диалоговую тактику – сосредотачивались на локальных вопросах, которые, однако, касались ключевых тем организации и охраны труда, безопасности на производстве, удобства и комфорта рабочего места, отдыха и жилья. Именно они вызывали живой интерес участников собраний. На профсоюзной конференции, посвященной обсуждению итогов выполнения коллективного договора за 1965 г. и заключению нового договора на 1966 г., работники завода дорожных машин им. Колющенко больше всего критиковали администрацию за отсутствие отопления в цехах, загазованность, нехватку душевых и помещений для приема пищи. Много нареканий вызывал дефицит спецодежды или ее редкая замена. Рабочие просили купить холодильник в женское общежитие и установить светофор на железнодорожном переезде, который необходимо перейти, чтобы добраться до завода (ОГАЧО. Ф. Р-40. Оп. 8. Д. 325. Л. 1–5). Профсоюзное собрание по итогам выполнения коллективного договора 1967 г. и заключения нового на АМЗ завершилось диалогом между работниками, директором завода и председателем профкома по наболевшим вопросам охраны труда, обеспечения ритмичности производства, жилья:
« Рыпаков Г., цех 10 : Наша гальваника находится в плачевном состоянии, кроме того, стоит линия, которая длительное время не работает, я от коллектива цеха прошу убрать эту линию. Хотелось бы остановится по вопросам снабжения. Почему у нас нельзя 27 числа каждого месяца получать материалы на следующий месяц, в результате несвоевременного получения материалов в цехе бывают простои […].
Сурков Ф.М., цех 9 : Выступление т. Андель я полностью поддерживаю. У нас техники на погрузо-разгрузочных работах очень мало. А мы ежедневно перевешиваем металл 50–60 тонн, для рабочих это очень тяжело, пора у нас уже иметь механизмы погрузки и разгрузки этих работ. Плохо смотрит дирекция на эти вопросы. Я просил бы, чтобы дирекция, партком и профсоюзная организация больше уделяли внимания вопросам механизации на тяжелых работах […].
Цех 5 : обращение к руководству завода создать приточную вентиляцию в летний период» (ОГАЧО. Ф. Р-1243. Оп. 4. Д. 46. Л. 15–17).
Завершающая протокол серия вопросов и ответов, а также ее сопоставление с текстом коллективного договора на 1968 г. показывают не только основные направления переговорного процесса, но и результат: основные требования рабочих по охране труда и усилению мер безопасности на производстве, задачи по решению жилищных и культурно-бытовых проблем были включены в новое соглашение между работниками, профсоюзом и администрацией. Приведем завершающий фрагмент протокола профсоюзной конференции:
« Ответы директора завода:
Вопрос :
-
1. Постлать пол в цехе 10 было намечено до 1 января 1968 г.
-
2. Когда будет построена столовая?
Ответ :
-
1. Администрация завода занимается этим вопросом, но силы были отвлечены на установку котлов в цехе 6 и центральной котельной.
-
2. Столовую должны открыть к 15 февраля.
-
3. Приобрести автомат газированной воды.
Вопрос :
Определить место для раздевалки цеха 10.
Ответ : место отведено, прошу использовать.
Вопрос : Строительство сатураторной установки, включить в колдоговор (восстановить).
Включить в колдоговор покраску домов на 16 квартале.
Ответ : В колдоговор не включается, т.к. будет производиться по плану капитального ремонта жил. фонда.
Вопрос : Будут ли сноситься бараки по ул. Днепропетровская-1, т.к. будет построено троллейбусное кольцо.
Ответ : Пока план такой по городу не утвержден.
Вопрос : Будет ли сдаваться в эксплуатацию жилплощадь в 1968 г.
Ответ : На 16 квартале началась закладка дома с магазином. Согласован проект строительства дома в 14 квартале.
Вопрос : Будет ли проводится ремонт бараков?
Ответ : Да, по плану ЖКО, утвержденному завкомом.
Дополнительные предложения :
-
1. Строительство сатураторных во всех цехах.
-
2. Побелка покраска домов (наружная) в 16 квартале.
-
3. Сделать столовую для цеха 10 и полы на пластмассовом участке.
-
4. Решить вопрос обеспечения качественными перчатками.
-
5. Закрасить окна в бане АМЗ или поставить матовые стекла.
-
6. Построить дорогу в пионерлагерь.
-
7. Утеплить склад готовой продукции отдела сбыта.
Постановили : доклады директора завода и председателя завкома тов. Шиншинова с замечаниями и предложениями выступающих делегатов – одобрить, и единогласно проголосовали за принятие колдоговора на 1968 год» (Там же).
На одном из крупнейших челябинских предприятий машиностроительного профиля – Челябинском тракторном заводе – обсуждение итогов коллективных договоров проходило каждые полгода. На отчетных конференциях присутствовало от 68 до 88 процентов избранных работниками цехов и производственных участков делегатов (ОГАЧО. Ф. Р-792. Оп. 5. Д. 2259. Л. 1; Д. 2261. Л. 1; Д. 2262. Л. 1; Д. 2264. Л. 1 и др.), что может свидетельствовать как о принуждении к посещению данного мероприятия, так и о том, что мероприятие было для участников важным. После докладов директора завода Зайченко и председателя профкома Дрыжова слово предоставлялось делегатам. Дежурные фразы о выполнении и перевыполнении государственного задания быстро уступали место насущным и наболевшим вопросам. Разговор шел о неритмичности производственного процесса, который мешал выполнению норм, что, в свою очередь, отражалось и на заработной плате, о механизации труда и вопросах безопасности. На конференции, проходившей в феврале 1964 г., делегат от цеха МХ-39 выступил с критикой: «Мне бы хотелось на конференции просить и директора завода и завком профсоюза обратить особое внимание на эту сторону снабжения нас металлом и заготовками. Сейчас первый участок, участок карусельных станков работает с загрузкой 70 %. Нет заготовок ни для трактора, ни на 712. Стоим мы по вине СЛЦ10 по каткам, кузнечного цеха по тракам и из-за отсутствия металла на втулки трактора. Работаем мелкими партиями на автоматах и автоматный участок держит работу всего корпуса. Я сегодня прошу директора завода и завком профсоюза решить эти вопросы, потому что мы в состоянии закончить объект в мае месяце, но с этой помощью» (ОГАЧО. Ф. Р-792. Оп. 5. Д. 2259. Л. 49). Делегат от агрегатного цеха обратил внимание на то, что пункт коллективного договора на 1963 г. об установке в цехе поворотной стрелы, которая механизировала перемещение грузов и облегчала труд работников цеха, был выполнен с большими трудностями вследствие невнимательного отношения администрации к проблеме; настаивал на включение в новый коллективный договор мероприятий по установки в цехе тепловой завесы и насоса. Это должно было уменьшить заболеваемость в цехе и ликвидировать еще один участок применения ручного труда. Делегат от цеха МХ-3 также требовал включить пункт о насосе в организационно-технические мероприятия коллективного договора на 1964 г. Он про- изнес весьма эмоциональную речь о бытовых условиях работников: «Нет на заводе ни одного цеха, который бы имел худшие бытовые условия, чем мы. За несколько человек до меня выступил здесь товарищ из ДМЦ-111. Он говорил, что не обеспечены раздевалками 80 человек. Если бы у нас было 80 человек не обеспечено, мы молчали бы, потому что у нас не обеспечена половина работающих. У нас нет ни одной бытовки в цехе, которая бы имела дневной свет, кроме моего небольшого кабинета. Поэтому мы просим включить в коллдоговор два основных пункта: 1. Мы нашли возможность изыскать место, где можно построить раздевалку на 350 человек, сделав второй этаж и просили включить это в коллективный договор. Предложение не приняли, я считаю, что это необходимо сделать, так как затраты небольшие, составляют 3,5 тыс. рублей и мы будем иметь раздевалку на 350-370 человек [...]» (Там же. Л. 49-50).
Выступавшие делегаты часто критиковали заводской профсоюз за то, что он плохо отстаивает интересы рабочих, тем самым эмансипируясь от института, формально представлявшего интересы рабочих. Так, работник ЧТЗ в феврале 1964 г. отмечал: «Мы без посторонней помощи выполняем государственный план. Выполняют государственный план люди, рабочие, но заботы о рабочих нашего цеха со стороны дирекции, заводского комитета профсоюза уделяется очень и очень мало. Зимой рабочие буквально замерзают потому, что температура доходит до 3–4 градусов тепла и замерзшими руками рабочий берет заготовку, деталь и неудивительно, что случаются травмы, когда заготовки из рук рабочих падают на ноги. Директор завода сказал, что у нас частота травматизма повысилась. Кроме того, это приводит к большим простудным заболеваниям, и количество простудных заболеваний увеличивается. В телогрейке рабочий не может работать, надевает два свитера, а за спину снег сыпется, а из калорифера поддувает холодный ветерок» (Там же. Л. 53). Интересно, что в ходе экономико-управленческого реформирования 1970-х - начала 1980-х гг. будет признана автономность трудового коллектива, сначала путем создания постоянно действующих производственных совещаний, а затем в законе о трудовых коллективах [ Бехтерев , 2013].
Серьезным препятствием на пути к эффективному социальному партнерству были дефициты позднесоветской экономики. Ограниченное финансирование социальной сферы и отсутствие свободного рынка в условиях относительного роста благосостояния были спецификой планового хозяйства государственно-социалистического типа. Дефицит средств на социальные нужды объясняет «кочующие» из одного коллективного договора в другой пункты об улучшении условий труда и решении жилищных проблем. Материалы коллективных договоров не показывают сколько-нибудь существенного увеличения вводимого в строй жилья, стремительного завершения недостроя или приращения объектов культурно-бытового назначения. Тем не менее кейсовые исследования, реконструирующие деятельность предприятий в области создания социальной инфраструктуры, показывают, что рост объемов финансирования социальной сферы на предприятиях на протяжении 1960-1970-х гг. был поступательным, хотя так называемая «золотая» VIII пятилетка на самом деле не отличалась какой-то особенной динамикой [ Пилипенко , 2021; Баканов , 2023].
Таким образом, коллективные договоры советских предприятий демонстрируют наличие элементов переговорного процесса в регулировании трудовых отношений в позднесоветском СССР. Признаки социального партнерства можно выявить преимущественно в таких сферах, как охрана и безопасность труда, обеспечение жильем, социальное страхование и забота о здоровье, санаторно-курортное обеспечение и отдых. Комплекс мероприятий, сопровождавших заключение, реализацию и проверку выполнения коллективных договоров, предполагал обсуждение параметров договора с участием всех трех сторон - администрации предприятия, профессионального союза и трудящихся. В ходе совещаний, которые проходили на всех уровнях предприятия - от цехов и отделов до общезаводского собрания, - вырабатывались практики диалога, конфликтов, лоббирования интересов, переговоров и компромиссов. Тексты коллективных договоров, приложения с перечислением организационно-технических мероприятий, сметы расходов фонда социально-культурных мероприятий свидетельствуют о постепенном закреплении практик социального партнерства. Возможно, исследователям трудовых отношений позднесоветского периода стоит более внимательно отнестись к словам, которыми предсе- датель заводского комитета ЧТЗ В. Н. Шамонов завершил свой отчет о выполнении коллективного договора за первое полугодие 1965 г.: «Коллективные договора завоевали широкую популярность среди трудящихся. Их заключение и проверка выполнения проходят как важнейшая хозяйственно-политическая кампания, способствующая мобилизации творческой активности масс на борьбу за выполнение производственных планов и улучшение условий труда рабочих и служащих. […] Практика показывает – там, где осуществляется постоянный контроль снизу за деятельностью хозяйственных руководителей, по обеспечению выполнения государственного плана, за соблюдением правил и норм охраны труда, за реализацией прав трудящихся – там достигаются более высокие результаты» (ОГАЧО. Ф. Р-792. Оп. 5. Д. 2264. Л. 31). Если «вычесть» из этого высказывания ритуальные фразы про творческую активность масс и хозяйственнополитическую кампанию, то указание на практики обсуждения трудовых отношений, их нормирования коллективными договорами, контроля снизу за действиями администрации и соблюдением условий труда и жизни трудящихся вполне вписываются как в международное, так и современное российское понимание социального партнерства в трудовой сфере.