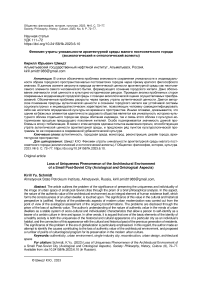Феномен утраты уникальности архитектурной среды малого постсоветского города (аксиологический и онтологический аспекты)
Автор: Шмидт Кирилл Юрьевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье обозначена проблема значимости сохранения уникальности и индивидуальности образа городского пространства малых постсоветских городов через призму краткого философского анализа. В данном аспекте затронута природа аутентической ценности архитектурной среды как неотъемлемого элемента самого человеческого бытия, формирующего сознание городского жителя. Дано обоснование значимости этой ценности в культурно-историческом ракурсе. Проведен анализ проблемных сторон современных модернизаций городской среды с позиции аксиологической оценки осуществляемых преобразований. Обозначенные проблемы раскрыты через призму утраты аутентической ценности. Дается авторское понимание природы аутентической ценности в сознании городского жителя как устойчивой системы социокультурных и индивидуалистических характеристик, позволяющих человеку самоидентифицировать себя как носителя определенной культуры во времени и пространстве. Иными словами, доказывается, что одним из базисных элементов идентичности здорового общества является как уникальность историко-культурного облика отдельного города как среды обитания индивида, так и связь этого облика с культурно-историческим прошлым предыдущего поколения жителей. Особо подчеркивается значимость данной проблемы в эпоху глобализации. В связи с этим автором сделана попытка выявления причин, способствующих утрате аутентической ценности архитектурной среды, и предложен ряд пунктов культурологической программы по ее сохранению в современной урбанистической культуре.
Аутентичность, городская среда, моногород, реконструкция, дизайн города, архитектурное пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/149142748
IDR: 149142748 | УДК: 111+72 | DOI: 10.24158/fik.2023.6.10
Текст научной статьи Феномен утраты уникальности архитектурной среды малого постсоветского города (аксиологический и онтологический аспекты)
На сегодняшний день жители малых городов составляют свыше половины населения нашей страны. Причем большая часть из них – основанные в относительно недалеком прошлом жилые массивы, строительство которых было связано с тем или иным видом производства. Таким образом, это разбросанные по территории России так называемые моногорода. Однако их нельзя определить как обслуживающую базу того или иного вида производственной деятельности. В то же время они являются средой обитания для нескольких поколений людей, личная история которых тесно переплетена с этими местами. Если использовать философские термины, то архитектурную среду, которой окружен человек в течении жизни, можно охарактеризовать как одну из форм бытия человека, и то, из чего складывается это бытие, во многом формирует мировосприятие личности. Следовательно, архитектурная среда – элемент культуры, заключающий в себе определенную ценность.
Возникает вопрос: как охарактеризовать эту ценность и что считать ценностью при анализе городской среды небольших промышленных городов, основанных в период Советского Союза. С одной стороны, архитектура обозначенных городов не имеет какой-либо исторической ценности. Их архитектурное пространство представляет собой типовую планировку, включающая в себя стандартный набор из парка, нескольких школ и муниципальных учреждений, а также жилой застройки сталинско-хрущевского типа. С другой стороны, для большинства жителей данный перечень не просто является средой обитания живого организма, а отражает персонифицированную историю, составляющую ценностный пласт на глубинном психологическом уровне. Пушкинские и есенинские места, конечно, представляют ценность для провинциального человека, но на духовноэмоциональном уровне воспринимаются им как что-то возвышенное, но абстрактное и потому оторванное от их реального мироощущения. Человек рождается и развивается внутри замкнутой системы объектов, организующих его бытие. Поэтому более глубинный уровень ценности связан у человека с образами, соприкасающимися с ним непосредственно. Этими образами могут быть старое дерево, аллея парка, дворы, улицы и прочие элементы пространства, которые, находясь во взаимосвязи с человеком, становятся неотъемлемой его частью.
Известно, что ландшафт, вмещающий человека, взращивает его и организует с ним субъектно-объектный симбиоз на психоэмоциональном уровне (Гун, 2012: 74). Это утверждение верно в аспекте отношения человека не только к естественной среде обитания, но и к искусственно созданной, которой в нашем случае является городское пространство. Поведение, характер и специфика социальных связей индивида – все это в значительной степени детерминировано окружающим пространством (Buch, 1882: 52). Возникает сакральная связь человека и пространства, в которое он погружен. Материальные элементы пространства, с которым мы взаимодействовали, формируют образную сторону мировосприятия, становясь частью личности (Горнова, 2014: 214). Так, пространственная среда становится звеном, помогающим человеку ответить на вопрос «кто я?» через осмысление вопроса «откуда я?». Размышление над ним во многом обусловлено окружающими образами, которые создают основу самосознания и самоидентичности человека.
В настоящее время подобная рефлексия по поводу философского осмысления города изучена мало. Фрагментарность исследовательских ракурсов приводит к тому, что город рассматривается как некоторое число подсистем, при этом не учитываются целостность и индивидуальность архитектурной среды конкретных городов (Заборова, 2006: 189). В связи с этим обоснованно замечание А.Е. Левинтова: «У нас нет онтологии города, у нас нет представления о городе, поэтому у нас нет города как объекта познания. Мы каждый раз управляем морфологическим составом города, его транспортом, жильем, чем угодно, но у нас нет общетеоретического, методологического представления о городе» (Городская цивилизация…, 1991: 45). Необходимо определить характер присутствия города в бытии человека, что до сих пор не сделано. На наш взгляд, онтология города должна вызывать более пристальное внимание, включающее ряд следующих аспектов.
-
1. Влияние пространственно-временных характеристик городской среды на периоды жизни отдельного индивида и группу индивидов в пределах нескольких поколений.
-
2. Осмысление значения артефактов окружающего пространства в аксиологическом ракурсе.
-
3. Влияние изменения образов городского пространства на духовно-нравственное развитие жителей (возможно, в контексте снижения или утраты чувства патриотизма).
Особое внимание следует уделить такой малоизученной области междисциплинарного характера, как онтология городского пространства, рассматривающая проблему с позиции не просто бытия города, а присутствия образов городского пространства в человеческом бытии (т. е. исследование самого пространства как фактора становления личности). В качестве методологической основы изучения этого вопроса предлагаем на данном этапе использовать метод историзма. Таким образом, была рассмотрена философская подоснова проблемы, решение которой далее раскрывается в рамках культурологического знания, поскольку именно оно позволяет осуществить практический анализ проблемы утраты культурного облика города.
У обозначенной проблемы несколько аспектов. Первый и, на наш взгляд, главный из них заключается в том, что процесс непродуманной в культурологическом плане реконструкции архитектурной среды изменяет визуальный образ города настолько, что полностью теряется культурная атмосфера, связанная с его историческим прошлым. Благоустроенная местность становится более адаптированной к современным урбанистическим стандартам, но не меньшее значение имеет проблема утраты культурно-исторического облика города. Проще говоря, человек уже не может прийти в тот старый двор, в котором играл в детстве, прогуляться по алее, по которой ходил в молодости, посмотреть на здание института, в котором учился. Утрачивая материальные носители, организующие образы пространства, отвечающего за становление личности, мы теряем часть самой нашей личности, связанную с культурной самоиндентичностью.
Так, в результате непродуманных преобразований объектов среды вместо пространства, поддерживающего межвременную связь, человек видит лишь своего рода «декорации», которые либо перекрывают те визуальные образы, которые представляли бы для человека обозначенную ценность, либо заменяют их собой.
Здесь мы переходим ко второй проблеме – ценности самих «декораций». На наш взгляд, реставрация архитектурных объектов малых городов должна опираться на общемировые принципы. В частности, это касается выбора реставрационных материалов. Согласно этим принципам, при проведении любого вида работ на реставрируемом объекте важно сохранить не только его внешний облик, но и материал, из которого он был изготовлен. Замена материала приводит к утрате технологических особенностей создания данного объекта, характеризующих его конструктивную индивидуальность (Куртуков, 2012: 69).
Примером подобной непродуманной реставрации может служить памятник Защитникам Родины в одном небольшом провинциальном городе (Альметьевске, Республика Татарстан). Так, в результате реставрационных работ монумент был помещен в металлическую оболочку, в результате чего было полностью утрачено восприятие этого памятника как культурного артефакта.
То же можно сказать и о современных тенденциях реставрации зданий. Зачастую руководители реставрационных работ в некоторых малых монопрофильных городах склоняются к использованию в целях экономии более легкодоступных материалов, произведенных химической промышленностью. Подобные технологические решения в дальнейшем приводят к возникновению конфликта между старыми и новыми материалами из-за недоучета разницы в их структуре 1 . В качестве примера таких работ можно привести распространенную практику последнего времени, которая выражается в реконструкции экстерьера домов с помощью «украшения» их внешнего облика раскрашенным пенопластом. Помимо указанной технологической проблемы, эстетическая сторона здесь также вызывает сомнение, особенно в тех случаях, когда здания было сооружено из чупаевского камня, в своей естественной текстуре уже демонстрирующего эстетический элемент. Зачастую реставрируемое подобным образом здание через какое-то время сохраняет эстетический вид только с расстояния, но при ближайшем рассмотрении (особенно в области первых этажей) наблюдаются трещины и отверстия в оштукатуренной поверхности, из которых высыпаются пенопластовые шарики. Соответственно, можно сделать вывод о внешнем состоянии объекта после такой реставрации через 10 или 20 лет.
На наш взгляд, подобная проблема возникает по причине недостаточного изучения объекта перед началом реставрационных работ. Выбору материалов для реставрации и технологий их применения должен предшествовать этап материаловедческого исследования объекта, выявляющий характеристики состава уже имеющегося материала. При этом целенаправленное воздействие на восстанавливаемый объект должно, по возможности, затрагивать только частично разрушенные или начинающие разрушаться материалы (Куртуков, 1012: 68). Только на основании скрупулезного анализа на пригодность или непригодность материала объекта разрабатывается план реставрационных работ. Под сомнением находится и фактор экологичности подобной реставрации. Хотя нами не найдены данные исследований по этой стороне проблемы, обильное использование пластика и пенопласта на открытых, нагреваемых солнцем поверхностях все же вызывает вопросы, касающиеся безопасности для природной среды и человека.
Кроме того, замена материала при реконструкции архитектурного пространства, на наш взгляд, представляется также экономически невыгодной. При минимальных творческих усилиях использование имеющегося материала намного выгоднее, чем заказ, доставка и применение нового. Таким образом, выбор материалов для реставрации, реконструкции и ремонтно-восстановительных работ должен осуществляться с учетом их характеристик, а также прогнозов последствий реставрационного вмешательства.
Помимо используемых материалов при реконструкции архитектурной среды существует и другая, не менее значимая проблема культурологического характера. В архитектурном облике постсоветского города присутствовал определенный стиль, возможно, не самый идеальный, но безусловно, заключающий в себе своеобразную уникальность. Лучше всего последнюю можно охарактеризовать как аутентичность. Термин «аутентичность» следует понимать в широком диапазоне значений, от традиционно-этнического до ретро-урбанистического. Данное понятие также тесно связано с категорией истинного существования человека, что в философской терминологии называется экзистенцией. В контексте нашей работы мы понимаем под термином «аутентичность» именно истинность и подлинность культурных феноменов в противовес так называемым культурным симулякрам (Соловьева, 2009).
Итак, чем характеризуется аутентичность постсоветского города? В чем заключается его истинность и подлинность? Любая культурная система, в том числе город, должна опираться на фундамент, составляющий истоки ее зарождения (Каган, 1992: 30). Если, например, для Санкт-Петербурга культурные истоки лежат в аутентичном облике XVII в., что соответствует его культурно-историческому развитию, то для малого постсоветского города культурный фундамент находится в пределах второй половины ХХ в. Культурные элементы, главным образом материальные артефакты, относящиеся к данному историческому периоду, отображают истинность культуры постсоветского города. Именно этот факт лежит в основе уникальности его архитектурного стиля.
Возникает вопрос: за всеми яркими дизайнерскими решениями современного благоустройства существует ли уникальность стиля сегодня? С большой вероятностью можно утверждать, что нет. Присутствует некоторая «натянутая» ориентация на футуристический образ города будущего по западной модели. Нельзя сказать, что в этом нет определенной эстетики, однако отталкивает внутреннее ощущение того, что это в некоторой степени калька культуры, которая не присутствует ни в истории города, ни в национальном мировосприятии.
Иногда в качестве компенсации предпринимаются попытки разрисовывания стен города изображениями этнического характера с отсылкой к национальной культуре. Однако и здесь, несмотря на изображение народных и исторических персонажей, стилистика рисунка передает западные тенденции уличного искусства стрит-арт. Выполняют эти настенные росписи, как правило, приезжие художники (зачастую иностранцы), которые имеют поверхностное представление о национальной культуре. В этом смысле косвенно затрагивается и проблема трудовой занятости местных работников искусства. Несмотря на обилие художественного оформления, художники не привлекаются к данной работе, что ведет к регрессу творческого потенциала города. Вся профессиональная деятельность людей искусства ограничивается, как правило, проведением мастер-классов на городских праздничных мероприятиях. В итоге область культуры и искусства, оказавшаяся ограниченной производственной сферой деятельности моногорода, медленно приходит к упадку, несмотря на кажущееся внешнее развитие. Сомнение вызывает и объемно-пространственная необходимость размещения данных изображений. Язык архитектуры и язык живописи – это несколько отстоящие друг от друга сферы искусства, пересекающиеся только в четко выверенных позициях. Кроме того, огромные настенные изображения, учитывая климатические условия средней полосы, в результате выветривания, выгорания на солнце и действия осадков спустя некоторое время примут неэстетичный вид.
Зачастую к художественному оформлению городской среды в малых городах привлекаются дизайнерские студии, что также не способствует выработке уникальности культурного облика городского пространства. Особенность дизайнерского мышления заключается в так называемой креативности, которая не подразумевает ни создание психологически-эмоциональных художественных образов, ни разработку уникальных решений в области архитектуры. Кроме того, креативность не предусматривает наличия компетенций в области культуры, искусства или истории, что в результате активной деятельности по художественному оформлению города приводит к созданию бессмысленной массы образов, оторванных от культурно-исторического бытия социума и ориентированных на мышление постиндустриального типа.
Все сказанное, однако, не говорит о том, что преобразования городской среды не должны осуществляться. Изменения – это естественная диалектическая форма развития (Пирогов, 2011). Тем не менее трансформации должны реализовываться в соответствии с продуманной культурологической программой.
Во-первых, следует проводить аксиологический анализ реконструируемого архитектурного пространства. Ключевой пункт данного анализа должен касаться культурологической обоснованности любых преобразований. Если такой обоснованности нет, то процесс преобразования городской среды следует выполнять с ориентацией на минимизацию изменений существующих объектов. Это предписание должно касаться как системы материальных объектов, организующих пространственную среду, так и отдельных реконструируемых или реставрируемых объектов. Степень вносимых в архитектурное пространство изменений должна определяться на основе консилиума местных работников культуры возрастом не моложе 40 лет (минимальный возраст, охватывающий период двух поколений). На указанном культурологическом консилиуме принимается заключение об аутентичной ценности реконструируемого участка, которое является основополагающим документом при принятии решения о вносимых изменениях в существующую архитектурную среду.
Анализ аутентичной ценности также должен включать в себя материаловедческие исследования с привлечением соответствующих специалистов. Они должны проводится с учетом перечисленных методик ремонтно-восстановительных и реставрационных работ и в общем плане сводиться к возможности максимального сохранения материала реконструируемых объектов с учетом их аутентичной ценности.
Во-вторых, проектным организациям и департаментам архитектуры следует предпринимать попытки создания уникального облика городского пространства. Современная урбанистическая культура российских городов - это заимствованная культура, состоящая из элементов стиля других урбанистических культур (в основном западной).
Обозначенные предписания по сохранению аутентичного облика должны затрагивать те области городского пространства, которые, согласно аксиологическому анализу, представляют ценность аутентического характера. Прочие участки городской среды, не имеющие аутентичной ценности или по техническим причинам нуждающиеся в преобразовании, следует ориентировать на разработку собственного уникального национального урбанистического стиля, в приоритете подразумевающего гармоничное сочетание с существующим культурно-историческим обликом города.
Разработка уникального урбанистического стиля предполагает творческую задачу, касающуюся не только малых городов, но и урбанистической культуры страны в целом. К сожалению, тенденция российской урбанистической культуры склоняется больше в сторону копирования и креативности, чем к творческому поиску, который в современном коммерциализированном обществе мало кого интересует. В случае с малыми монопрофильными городами эта проблема осложняется полной ориентацией культурной сферы на точку зрения организационно-промышленной элиты города, что приводит к ее ограниченности рамками производственной структуры.
Проблему отсутствия уникального стиля городской среды, на наш взгляд, следует решать на двух уровнях: допрофессиональном и профессиональном. Первый связан с ориентацией на максимальное привлечение к созданию облика города местного населения . С психологической точки зрения облик города во всей его полноте способен осознать только человек, большую часть жизни находившийся в его пределах, так как он, являясь его элементом, способен на рефлексию, касающуюся среды, в которую он погружен. Следовательно, творить пространство с максимальным постижением его сущности может творческий индивид, развивающийся в этом пространстве, т. е. житель данного города. Однако по причине оторванности жителей монопрофильного города от реализации своего творческого потенциала в практической деятельности в итоге наблюдается полное отсутствие стимула к творческому развитию у населения.
В качестве выхода из сложившейся ситуации необходимо создать ряд учреждений, занимающихся развитием и активным включением местного творчески ориентированного населения в процессы по художественному оформлению городской среды. Сначала в этом качестве могут выступать муниципальные творческие мастерские, закрепленные за каждым из районов города и занимающиеся художественным оформлением в пределах дворовых территорий и скверов. Эти мастерские предположительно должны заниматься художественным оформлением территориально закрепленного за ними района. Их основной задачей должна стать направленность на творческий поиск уникальности визуального стиля в области городского дизайна без ориентации на международные дизайнерские практики. Оптимальным пробным вариантом реализации подобной идеи может являться создание мастерских на базе существующих подростковых клубов, где одновременно могут работать несколько специалистов в области культуры и искусства и проходить обучение молодежь в русле практической творческой самореализации. На профессиональном уровне поиску, выработке и созданию уникального архитектурного пространства должны уделять внимание строительные и архитектурные институты, занимающиеся проектированием зданий и сооружений.
Также в качестве смежной проблемы, усугубляющей утрату культурной аутентичности, следует отметить переизбыток магазинов и ресторанов в архитектурном пространстве города. Помимо того, что они создают ориентированность населения на потребительскую культуру, в визуальном плане они конфликтуют с исторической средой города, представляя собой визуальный мусор из логотипов и названий. Чтобы исправить ситуацию, необходимо ввести набор правил, определяющих количество заведений, ориентированных на культуру потребления на единицу площади, а также пересматривающих существующие нормы, регламентирующие внешний вид и размер вывесок.
Все изложенные проблемы, как и все в науке, касается двух взаимосвязанных аспектов, обозначенных еще много веков назад, - формы и содержания. Проблема сохранения аутентичности - это проблема сохранения формы культуры, которая неразрывно связана с содержанием, а именно с нашим культурным прошлым. Разрушая эту форму, мы уничтожаема основы культурной уникальности, не имея при этом в качестве альтернативы никаких других вариантов, кроме заимствования. Однако заимствование чужого, вероятно, не лучший вариант из возможных, хотя и более легкий. Но легкий не значит истинный: истинный путь – это тот путь, где вы не встретите чужие следы.
Список литературы Феномен утраты уникальности архитектурной среды малого постсоветского города (аксиологический и онтологический аспекты)
- Горнова Г.В. Философия города. М., 2014. 344 с.
- Городская цивилизация: методология, теория, практика: тр. конф. / отв. ред. В.И. Тищенко. М., 1991. 91 с.
- Гун Г.Е. Урбанистика и художественная культура города // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2012. № (1) 29. С. 74-77.
- Заборова Е.Н. Феномен города с точки зрения теории социального пространства // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социально-гуманитарные науки. 2006. № 2 (57). С. 188-195.
- Каган М.С. Культура города и пути ее изучения // Город и культура: сб. науч. тр. / науч. ред. С.Н. Иконникова, Г.В. Скотникова. СПб., 1992. С. 15-34.
- Куртуков К.А. Об особенностях выбора строительных материалов для реставрации объектов культурно-исторического наследия // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2012. № 2. С. 66-69.
- Пирогов С.В. Город как феномен культуры: когнитивный подход // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2011. № 2. С. 31-37.
- Соловьева А.Н. Концептуализация аутентичности в контексте глобализации культуры // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. 2009. № 2. C. 137-141.
- Buch M. Die Wotjaken, eine ethnologische studie. Helsingfors, 1882. 190 p.