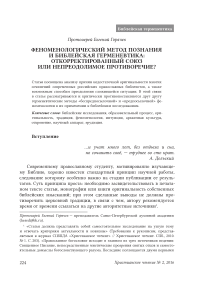Феноменологический метод познания и библейская герменевтика: откорректированный союз или непреодолимое противоречие?
Автор: Горячев Evgeny
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Библейская герменевтика
Статья в выпуске: 2 (67), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу причин недостаточной оригинальности многих сочинений современных российских православных библеистов, а также возможным способам преодоления сложившейся ситуации. В этой связи в статье рассматриваются и критически противопоставляются друг другу герменевтические методы «беспредпосылочной» и «предпосылочной» фе- номенологии в их применении к библейским исследованиям.
Библейские исследования, образовательный процесс, оригинальность, традиция, феноменология, интуиция, архаичная культура, откровение, научный аппарат, эрудиция
Короткий адрес: https://sciup.org/140190167
IDR: 140190167
Текст научной статьи Феноменологический метод познания и библейская герменевтика: откорректированный союз или непреодолимое противоречие?
Вступление
…и учат много лет, без отдыха и сна, но сочинить своё, — труднее во сто крат.
А. Дольский
Современному православному студенту, мотивированно изучающему Библию, хорошо известен стандартный принцип научной работы, следование которому особенно важно на стадии публикации ее результатов. Суть принципа проста: необходимо засвидетельствовать в печатаном тексте статьи, монографии или книги оригинальность собственных библейских изысканий; при этом сделанные выводы не должны противоречить церковной традиции, в связи с чем, автору рекомендуется время от времени ссылаться на другие авторитетные источники1.
Следует признать, что для начальной ступени обучения пространное использование в студенческих работах чужой исследовательской аргументации вполне оправдано, поскольку уровень серьезных библейских знаний у молодых людей, поступающих в высшие учебные заведения РПЦ, действительно невысок. Беспочвенные экзегетические фантазии первокурсников никому не интересны (а для самих «новичков» порой и опасны), поэтому преподаватели и предлагают им, вначале детально и вдумчиво ознакомиться с классикой мировой библеистики, а уже затем двигаться в самостоятельный научный путь.
Повторяем, чисто теоретически это абсолютно правильно, ибо такая педагогическая методика и логична, и традиционна, но на практике навыки цитирования библейско - богословских авторитетов настолько прививаются, что в итоге складывается следующая ситуация: изначально декларированные согласованность и равновесие бинарных задач индивидуальной научной работы смещаются в сторону одной лишь «авторитетности». Солидный библиографический аппарат становится для студентов старших курсов (и даже аспирантов) важнее собственных открытий, ибо во многих случаях трудно понять, есть ли у автора того или иного опубликованного сочинения хотя бы одна не заимствованная идея, поскольку в самом тексте он только и делает, что подтверждает свои суждения чьим - то иным, ранее уже высказанным мнением.
Последствия всем известны. Специализированная отечественная литература по библейским вопросам непрестанно умножается, а вдохновиться читателю нечем, поскольку оригинальность суждений в таких изданиях или отсутствует, или едва заметна, поглощенная десятками страниц тяжеловесных многоумных цитат с корректными академическими ссылками на источники их происхождения. Печально, но квалифицированные православные библеисты, научившиеся виртуозно обращаться к чужим авторитетам, — сами авторитетами так и не становятся!
Нам кажется, что такое положение следует изменить. Как? Возможному способу восстановления баланса между личным творчеством в области библеистики и необходимостью постоянно ссылаться на чужие научные открытия и посвящена эта статья.
Феномен переоцененной интуиции
Одним из популярных философских направлений XX века, заметно повлиявшим на многие интеллектуальные сферы человеческой деятельности (культурологию, психологию, социологию, психиатрию, этику, эстетику, правоведение и пр.), стала феноменология. Надо сказать, что и на герменевтику, как на науку о правилах истолкования любых сложных текстов феноменология, бесспорно, оказала самое серьезное влияние. Остается выяснить распространяется ли перспектива подобного воздействия и на герменевтику Библии?
Сразу же уточним, что, говоря о феноменологическом способе познания действительности, мы имеем в виду оригинальную гносеологию Э. Гуссерля (1859 – 1938), в которой объектом достоверного научного исследования становятся акты, так называемых, «чистых проявлений человеческого сознания», которые могут быть рассмотрены вне их взаимосвязи с физическим миром2.
В целом эта методика может быть определена как беспредпосы-лочная фиксация индивидуального ментального опыта. Что имеется в виду? Прежде всего, постижение бытия через некое умственное озарение, но с важным предварительным условием, — феноменологической редукцией. Метафорически этот процесс можно объяснить следующим образом: только когда с «доски» персонального сознания будут стёрты все многочисленные «записи» предшествующего нефеноменологического понимания какого-то предмета или явления, исследователю, наконец-то, может открыться самая суть искомого, поскольку только на tabula rasa ищущего разума проступают слова истины3.
Если же перейти от ярких метафор к языку философии как строгой науки, то следует констатировать, что главной задачей феноменологического исследования является, по мнению Гуссерля, анализ интенци-ональных4 модифицированных рассудочных актов познающего субъекта, исходным материалом для которых служат данные персональной интуиции в ее чистом виде. «Модифицированность» в данном случае означает, что в процессе феноменологического исследования ученый, познающий некую реальность (явление–феномен), должен сознательно и по возможности полностью дистанцироваться от всех имеющихся у него нефеноменологических сведений об этой реальности5.
Почему же прежде всех остальных объектов исследования Гуссерль предлагал обратиться к такому странному, и в каком-то смысле «стерилизованному» опыту познающего разума? Да потому, что только такой тип сознания понимался им как некое «трансцендентальное я» и одновременно область «чистого безусловного смыслообразования»6, и поэтому: «в качестве бытия более первичного по отношению к бытию вещественному, следует признать бытие чистого ego и его переживаний, взятых как самостоятельные первичные сущности»7. Это и есть искомая безусловная аподиктическая очевидность, от которой только и стоит отталкиваться в познании.
Мы убеждены, что с точки зрения христианской догматики феноменология в таком, чисто гуссерлианском виде, — выглядит как попытка искусственного уподобления человека Богу и в своей персональной самоидентификации, и в своих самоощущениях! Бог как вечный и абсолютный Разум действительно предшествует всякой иной вторичной по отношении к Нему реальности. Но человек не Бог! Даже уподобляясь Ему по благодати (ср.: Ин 20:17), любой мыслящий индивидуум все равно остается лишь производным от самодостаточных волеизъявлений Высшего Разума (ср.: Быт 2:7; 3:10). В действительности это означает, что наше человеческое сознание (не будучи ни вечным, ни автономным) не может являться легитимной природной средой или хотя бы ментальным инструментом для чистого безошибочного миропонимания, поскольку оно, во-первых, имеет начало, во-вторых, проходит многочисленные стадии индивидуального неоднородного становления, и наконец, постигает мир в его нынешнем искаженном грехопадением виде (ср.: Быт 3:18; Ис 55:9; 1 Кор 13:12).
Каков же вывод? Поскольку феноменология рассматривает изучаемые явления в неестественном (по сути, «обнулённом») сознании индивида, ограничивая инструментарий исследования его частной интуицией, можно смело утверждать, что такая методика постижения любых типов сущего, является в своей конечной стадии не столько «монологами покорившейся разуму вселенной», сколько субъективным и недостоверным самоистолкованием 8.
Казалось бы, здесь все ясно, и было бы весьма странным навязывать традиционной церковной герменевтике столь ненадежный метод библейской работы. Однако не будем торопиться с решительными выводами и вернемся к этому вопросу еще раз в конце статьи.
Любая архаичная культура — непостижима?
Еще в начале XX века О. Шпенглер не без оснований утверждал, что всякое архаичное прошлое (кроме, пожалуй, своего собственного), понятое в самом широком смысле, является неприступным для объективного изучения, потому что оно давно прошло9.
Доказательств этому множество. Ситуация, в которой исторические современники не наследуют культурную доминанту своих исчезнувших праотцев (несмотря на то, что они являются их прямыми этническими потомками), согласимся, довольно распространена. Можно быть русским, и не иметь никаких представлений о домонгольском периоде своей истории; или даже иметь эти представления, но лишь в качестве неких поверхностных отвлеченных сведений, и значит, в плане самосознания быть абсолютно закрытым к миру основных идей и ценностей этого периода национального прошлого. То же самое можно сказать и о коренном населении нынешнего Египта, Китая или, например, Мексики; словом, о любом традиционном этническом обществе, у которого религиозно-культурная преемственность или полностью оборвалась, или прошла через необратимые ментальные изменения. И если национальному ученому (после целого ряда сложнейших специализированных усилий10) найти и приоткрыть «дверь» в глубокую родовую старину по временам все-таки удается, то для носителя изначально другого типа мировосприятия, — такая дверь, по мнению Шпенглера, наглухо и навсегда закрыта.
Впрочем, многие историки культуры не считали подобную ситуацию столь безнадежной, и поэтому, «не поддаваясь гносеологической панике», предлагали различные авторские методики, позволяющие исследователям заговорить не только со своей, но и с любой другой исчезнувшей древностью на ее собственном языке, и, следовательно, претендовать на ее подлинное понимание11. Помимо названных методик у этих ученых, также как и у сторонников взглядов О. Шпенглера была своя серьезная аргументация, но не наша задача вступать сейчас в этот интересный, до сих пор длящийся, научный спор на чьей либо стороне12, поскольку древнейший письменный Источник, о корректных способах изучения которого пойдет вскоре речь, стоит в перечне всех остальных памятников архаичного наследия человечества на совершенно особом месте.
Библия — Откровение непреходящей Истины
По убеждению христиан Библия — это не просто памятник далекой умолкнувшей старины, — она неиссякаемый источник «воды живой», который неизменно утоляет религиозную жажду своих адептов, в каком бы времени и среди какого народа они бы не проживали (ср.: Ин 4:14; Мф 13:13).
С беспримерной выразительностью только этот священный текст человечества, имея четкое фиксированное начало в прошлом, в самом этом прошлом не остается! Будучи живым словом Божьим, библейское Откровение находится в постоянной динамике исторического самораскрытия, ибо вектор сотериологических смыслов, содержащихся в этой Книге, устремлен из ушедших эпох, — одновременно — и в наш сегодняшний день, и в самое отдаленное будущее. Поэтому совершенно не удивительно, что Библия (разумеется, для тех, кто верит в ее богодухновенность) является непротиворечивым литературным собранием выдающихся сакральных идей, которые могут абсолютно законно использоваться христианами, как для актуальной проповеди своим современникам, так и для истинных пророчеств потомкам!
Другими словами, Библия никогда не была и не будет «замкнутой в себе монадой», с непостижимостью которой любому этническому неиудею нужно просто смириться. Как раз наоборот, Библия — для всех и навсегда! Она — универсальное Откровение Живого Бога!
И поэтому, приветствуя любые попытки прочесть и понять ее хроники, гимны, псалмы, генеалогии, поучения, притчи и прочие жанровые повествования в контексте ушедшего прошлого13, нельзя забывать о том, что написанное в этой Книге, скажем, во времена Навуходоносора или Нерона, удивительным образом затрагивает и нашу сегодняшнюю действительность14.
«У каждого своя доля в Торе»
Данное свойство Божественного Откровения позволяет нам вновь обратиться к проблеме поставленной в начале этой статьи, с тем, чтобы еще раз определить место «самостоятельных домыслов богословствую-щего разума» в православной библейской экзегезе и герменевтике. Если в нашей церковной традиции сущность Книги Книг давно и полностью раскрыта, если вся совокупность этих священных текстов давно Церковью объяснена и методологически «укомплектована», то, очевидно, что современным православным библеистам следует не столько искать и комментировать, сколько повторять и заучивать. Какой смысл творчески открывать и усваивать новые грани библейской Истины, если каждый наш личный экзегетический шаг не может простираться дальше смысловой границы, уже очерченной чужими авторитетными толкованиями?! Однако, принимая эту позицию в качестве нормы, мы не ищем в библейских исследованиях своего собственного неповторимого голоса, а лишь ретранслируем чужие! А это противоречит и духу, и букве Писания (ср.: Ин 5:39).
Выход один: самостоятельно и по-новому исследовать безграничное содержание имеющегося у нас Откровения. Сразу же подчеркнем, это вовсе не апология всем известных крайностей исторического про-тестантизма15, а всего лишь вера в то, что у каждого православного ученого-библеиста имеется свой уникальный экзегетический потенциал! И это значит, что такой человек, принадлежа к своей собственной освященной традиции (которая до этого уже была им хорошо и детально изучена), абсолютно свободен в исследовании и понимании Книги, через которую Бог говорит с ним лично! «Свободен» не в смысле произвола (понятно, что любое частное экзегетическое мнение не должно противоречить церковной догматике, «согласию отцов», литургике, основам канонического права, etс.), а в том смысле, что изначальная по-лисемантичность этих уникальных текстов позволяет ему посмотреть, например, на самый знакомый библейский сюжет или этический принцип под несколько иным, непривычным углом зрения; и это новое индивидуальное видение богодухновенного текста, принципиально не разрушит его древнюю сакральную аутентичность, а лишь дополнит ее! (ср.: Мф 22:42–45)16.
Метод «предпосылочной феноменологии»
Теперь вернемся к Гуссерлю. Его метод «беспредпосылочной фиксации интенционального ментального опыта», как уже выяснилось, в православную библейскую герменевтику совершенно не вписывается, но это вовсе не означает, что нам не следует искать сходное с феноменологическим озарение с помощью других, вполне приемлемых конфессиональных методик. Что имеется в виду в данном случае? Если, например, некий православный христианин в процессе индивидуальной научной работы, направленной на изучение Священного Писания, не будет отвергать свои предшествующие знания, а наоборот обопрется на всю их совокупную живую силу, результат может быть вполне продуктивным. И чем больше самых разнородных и серьезных сведений будет в его активе, тем больше будет у него шансов на достойный исследовательский результат. При этом мы убеждены, что дойдя до стадии публичного отчета о проделанной работе, такому человеку не обязательно демонстрировать всю свою «черновую эрудицию», послужившую основой для вполне конкретного собственного открытия; настоящему ученому не нужно казаться сведущим, достаточно просто быть аргументированным!
Доказательства? Как известно, автор «Истории и будущности теократии», на многих сотнях страниц своего библейско-экзегетического шедевра практически не делает ссылок на каких-либо других авторитетных комментаторов (разумеется, за исключением ссылок на оригинальный текст Священного Писания); значит ли это, что труд В. С. Соловьева экзегетически автономен (ни кем и ни чем не обусловлен), поскольку создан лишь на основе фиксирования данных его индивидуальной бес-предпосылочной интуиции? Нисколько. Наоборот, именно колоссальная эрудиция (т.е. обширное предпосылочное знание) служит для Соловьева-экзегета неким живым, никогда не отметаемым информационным фундаментом, на который он хотя и не ссылается17, но на котором непрестанно выстраивает все свои удивительные библейско-богословские прозрения и ассоциации18.
Заключение
Подведем итог. Констатировав в самом начале статьи проблему недостаточной оригинальности, присутствующей в современной отечественной библеистике, мы попытались сформулировать возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Для этого нам пришлось подробно рассмотреть ряд других вопросов, связанных с данной проблематикой или напрямую, или опосредовано. Краткое резюме может быть сведено к следующему.
-
1. Библия не является типичным памятником исчезнувших архаичных культур, в успешное постижение которых исследователи либо не верят вовсе, либо наоборот, верят «до неистовства», прибегая при этом к сложнейшим способам анализа сохранившихся источников; с помощью этих методов ученые второго типа стремятся расшифровать любые культурологические загадки, но. Библия — это, в первую очередь, неподвластное земному забвению живое слово Живого Бога. И поэтому, принимая как аксиому всю исагогическую составляющую этих богодухновенных текстов, нам следует помнить, что Откровение, прозвучавшее некогда из уст Моисея и других библейских авторов, в определенном смысле учитывало реальности и нашего сегодняшнего времени! И если любому другому отдаленному прошлому исследователи не должны «навязывать свои современные представления о нем»19, то при изучении Священного Писания такой, не разрушающий традицию «субъективизм», только
-
2. Для выполнения этой задачи вполне аутентичным способом истолкования священного текста может считаться метод, который мы условно назвали методом предпосылочной феноменологии. Данный способ, существенно отличаясь от беспредпосылочной феноменологии Гуссерля, позволяет нам рассматривать большинство зафиксированных библейских феноменов не вопреки нашему многопрофильному предшествующему образованию (здесь в самом широком смысле), а наоборот, благодаря ему и, по сути, на его основе. В результате: религиозные идеи, концепции и ассоциации, возникающие у исследователя на базе предыдущих («облагороженных» церковным преданием) знаний, могут, в конце концов, быть признаны новыми полноправными свидетельствами разворачивающегося и раскрывающегося в истории Откровения. Другими словами: в какой-то момент определенные частные богословские усилия могут стать авторизованными «звеньями» безграничной Истины, в очередной раз явленной «нас ради человек и нашего ради спасения» через достойного экзегета! Разумеется, такой статус может быть закреплен за библейским открытием только после соответствующей рецепции.
-
3. И последнее. Ссылки на признанные в церковной науке авторитеты не должны стоять у православного исследователя Библии на первом месте: гигантский справочный аппарат — не синоним учености! Если библиографические ссылки и чужие цитаты, введенные в сочинение, превышают разумные пределы, и при этом их главная функция сводится лишь к тому, чтобы непрестанно подтверждать якобы самостоятельное авторское мнение, то тогда такая работа вряд ли может претендовать на какую-то новизну и актуальность. Настоящему ученому следует дорожить и собственной компетентностью, и читательским временем. А это значит иметь свободу и главное право не делать ссылок там, где этого явно не требуется. Мы убеждены, что во многих случаях чужие авторитетные мнения должны присутствовать в нашем творчестве лишь имплицитно. «Он ни на кого не ссылается»! — И что? Нам кажется, что наша священная традиция, в первую очередь расположена к тем, кто хорошо ее знает, и, следовательно, негласно учитывает в своем
приветствуется ( ср.: Ин 5:39). Именно на попытках уловить и зафиксировать эти новые грани вечной божественной Истины и должен сосредоточить свое основное внимание современный православный библеист, не желающий своим экзегетическим творчеством единственно умножать литературу вопроса. Мы убеждены, что в случае успеха, обвинения в тривиальности ему точно не грозят.
творчестве. Не надо бояться минимума ссылок в интереснейшем экзегетическом сочинении, поскольку предшествующая конфессиональная выучка автора (давным-давно ставшая для него имманентной) делает его собственные открытия концептуально солидарными со всеми иными, ранее церковно признанными.
Список литературы Феноменологический метод познания и библейская герменевтика: откорректированный союз или непреодолимое противоречие?
- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета, в русском синодальном переводе с приложениями. Брюссель: Издательство «Жизнь с Богом», 1983.
- Булгаков С., прот. Православие. Очерки учения православной Церкви. Киев, 1991.
- Гоголь Н. В. Предметы для лирического поэта в наше время. Два письма Н. М. Языкову//Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. М., 1952. Т. 8.
- Гуревич А. Я. М. Блок и «Апология истории». М., 1986.
- Гуссерль Э. Логические исследования. М., 2005. Т. 2.
- Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 2001.
- Киприан (Керн), архим. Антропология Св. Григория Паламы. М., 1996.
- Колесов В. В. Древняя Русь: наследие в слове. СПб., 2001. Кн. 2: Добро и зло.
- Куренной В. А. Феноменология Эдмунда Гуссерля. М., 2005.
- Падмасамбхава: Побуждение к духовной практике//Совет Рожденного из Лотоса. СПб.: Изд. «Уддияна», 2006.