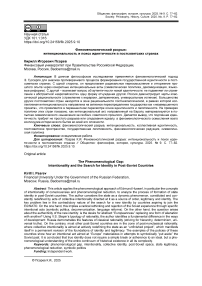Феноменологический разрыв: интенциональность и поиск иден-тичности в постсоветских странах
Автор: Псарев К.И.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 9, 2025 года.
Бесплатный доступ
В данном философском исследовании применяется феноменологический подход Э. Гуссерля для анализа противоречивого процесса формирования государственной идентичности в постсоветских странах. С одной стороны, он предполагает радикальное переосмысление и отторжение прошлого опыта через конкретные интенциональные акты (символическая политика, декоммунизация, языковые реформы). С другой – возникает вопрос об аутентичности новой идентичности: не подменяет ли стремление к абстрактной «европейскости» одну форму отчуждения другой. Россия демонстрирует черты классической рациональности (стремление к иерархии, детерминизму, универсальным истинам). Большинство других постсоветских стран находятся в зоне рациональности постнеклассической, в рамках которой коллективная интенциональность направлена на активное переопределение государства как «незавершенного проекта», что проявляется в перманентном пересмотре основ идентичности и легитимности. На примерах политики этих стран показано, как интенциональный акт, направленный на Европу, материализуется в попытках символического «вынесения за скобки» советского прошлого. Делается вывод, что подлинная идентичность требует не простого разрыва или следования идеалу, а феноменологического осмысления всего континуума исторического бытия во всей его сложности.
Феноменологический разрыв, интенциональность, коллективная идентичность, постсоветское пространство, государственная легитимность, феноменологическая редукция, символическая политика
Короткий адрес: https://sciup.org/149149079
IDR: 149149079 | УДК: 101.1:316 | DOI: 10.24158/fik.2025.9.10
Текст научной статьи Феноменологический разрыв: интенциональность и поиск иден-тичности в постсоветских странах
Введение . Актуальность данного исследования обусловлена продолжающейся динамикой поиска национальной и государственной идентичности в странах, возникших на постсоветском пространстве, спустя три десятилетия после распада СССР. Этот процесс, характеризующийся высокой степенью смысловой и политической турбулентности, проявляется в перманентном пересмотре основ легитимности власти, геополитических ориентаций, моделей социального устройства и исторического самовосприятия. Особую остроту проблеме придает текущий контекст глобальной нестабильности и геополитической конфронтации, где выбор вектора развития и глубина разрыва с советским наследием становятся не только вопросами внутренней политики, но и факторами международных отношений.
Феноменологический подход, фокусирующийся на коллективной интенциональности как основе конституирования государственного феномена, предлагает уникальный инструментарий для практического осмысления этих глубинных процессов смыслообразования, выходя за рамки чисто институционального или идеологического анализа и обращаясь к опыту непосредственного переживания государственности сообществами.
Формирование национальной идентичности в постсоветских государствах, активно интегрирующихся в европейские структуры, такие как Европейский Союз и НАТО, представляет собой чрезвычайно сложную и противоречивую область научного исследования. Этот процесс сопряжен с глубоким парадоксом: стремление к европейской интеграции требует от этих стран радикального переосмысления и фактически отказа от своего советского прошлого. Это проявляется в целенаправленных действиях, направленных на перестройку национального самосознания. Это проявляется в активной символической политике, в масштабных процессах декоммунизации, в реформах языковой политики, призванных заместить советские идеологические и лингвистические доминанты. Однако возникают серьезные сомнения по поводу подлинности, аутентичности создаваемой идентичности. Слепое копирование европейских моделей без критического осмысления собственного исторического опыта и культурного наследия может привести к созданию искусственной, нежизнеспособной идентичности, лишенной внутренней целостности и духовной глубины.
Основная часть . Развитие государства, понимаемое не просто как хроника эволюции социальных институтов или принятия политических решений, но как динамика коллективного смыс-лообразования, находит глубокое осмысление в рамках феноменологического подхода Э. Гуссерля. Как отмечал философ в своей работе «Картезианские медитации», сознание всегда интенционально, оно направлено на объект и конституирует его значение в акте переживания: «При этом речь идет не только об установлении корреляций между актами сознания и осознаваемой предметностью, но и о внутреннем генезисе смысловых структур, возникающих благодаря сочетаемости или несочетаемости определенных типов переживаний, благодаря взаимным переходам активных и пассивных синтезов сознания» (Гуссерль, 2020: 7).
Применяя эту методологию к государству, мы можем рассматривать его не как статичную сущность, а как постоянно воспроизводимый и трансформируемый феномен коллективной интенциональности. Государство существует, поскольку коллективное сознание граждан направлено на него как на целостный смысловой объект – источник порядка, идентичности, легитимности и норм.
Как заметил Д.В. Малахов, «сторонники либерализма укажут на западную демократическую модель. Феноменология заявляет нечто иное – удостоверение в том, что движение идет в верном направлении, возможно, не вследствие эффективной практической реализуемости конкретных идей, а при условии глубокого и строгого рационального продумывания, способного распознать признаки приближающейся катастрофы в самом, казалось бы, благополучном положении» (Малахов, 2018: 44).
Данная мысль перекликается с утверждением, что изменения в государстве являются сутью отражения сдвигов в этих фундаментальных интенциональных актах, что сообщество воспринимает, осмысливает и «удерживает» идею собственной государственности. Феноменологическая редукция (эпохе), предложенная Э. Гуссерлем, призывает нас «заключить в скобки» предвзятые представления о государстве (его идеологии, истории, силе) и обратиться к непосредственному опыту его данности в коллективном сознании: «Конечно, та же самая игральная кость – выступающая в сознании как та же самая – может быть сознаваема, одновременно или последовательно, также в обособленных, весьма разнородных модусах сознания, например в отдельных восприятиях, воспоминаниях, ожиданиях, оценках и т. д.» (Гуссерль, 2020: 60). Это позволяет увидеть, как кризисы, реформы или революции становятся проявлениями трансформации самой интенциональной структуры, конституирующей государственный феномен, когда привычные смыслы теряют очевидность и требуют переосмысления.
Для анализа характера этой трансформации ключевой становится концепция типов рациональности, разработанная В.С. Стёпиным в работе «Теоретическое знание: структура, историческая эволюция». Исследователь выделяет классическую рациональность, стремящуюся к абсолютной объективности, детерминизму и универсальным законам, исключая наблюдателя из картины мира; неклассическую рациональность, признающую относительность знания к средствам и условиям наблюдения, включая субъекта в контекст познания; постнеклассическую рациональность, которая акцентирует сложность, саморазвитие, нелинейность систем и необходимость учета ценностных ориентаций исследователя, рассматривая объект как открытую, исторически развивающуюся систему (Стёпин, 2003: 633–635).
Применяя эту типологию к современным государствам, мы наблюдаем сложную мозаику. Россия, формально находящаяся в пространстве неклассической рациональности с ее признанием сложности социальных систем и относительности моделей, а также находясь в условиях мировой турбулентности, демонстрирует устойчивое преобладание атрибутов рациональности классической. Это проявляется в стремлении к иерархии и детерминизме, проявляющемся в централизации власти, а также в объективизме – поиске универсальных «исторических» истин о своем пути и попытках минимизировать влияние «субъективного» фактора общественного мнения или плюрализма на принятие ключевых решений. Государственная интенциональность здесь направлена на конституирование государства как монолитной, предопределенной сущности с четкими границами смысла, что отражает попытку удержать классические идеалы порядка в сложном и постоянно меняющемся мире.
В это же время страны Прибалтики, Румыния, Молдавия, Грузия, Украина, а в последние годы и Армения оказываются в зоне смысловой и политической турбулентности. Их коллективная интенциональность, направленная на государство как объект, переживает глубокую трансформацию. Устойчивые признаки государственности – прежде всего, в аспекте идентичности, легитимности власти, геополитической ориентации и модели социального устройства – подвергаются радикальному пересмотру. Это выражается в перманентном общественном диалоге, имеющем форму скрытого конфликта о фундаментальных ценностях, в смене внешнеполитических векторов, в борьбе различных моделей национальной идентичности, в хрупкости институтов и постоянных попытках переучреждения политического порядка. В этом случае государство здесь выступает не как данность, а как открытый, незавершенный проект, находящийся в процессе интенсивного самоопределения. Интенциональные акты направлены не на фиксацию стабильного образа государства, а на активное участие в его переопределении, что соответствует постнеклассическому признаку включенности субъекта в систему и признания ее исторической незавершенности. Утрата «устойчивых признаков» является симптомом интенсивного поиска новой конфигурации коллективного смысла в условиях крайней сложности и нелинейности исторического момента. Феноменологический взгляд, таким образом, позволяет увидеть в развитии государств динамику глубинных сдвигов в коллективном сознании, где интенциональность, рациональность и исторический контекст сплетаются в единый процесс конструирования политического бытия.
По мнению Э. Гуссерля, сознание всегда направлено на объект, конструируя его смысл: «Эмпирическое созерцание, в особенности опыт, есть сознание какого-либо индивидуального предмета, и, как сознание созерцающее, “оно приводит таковой к данности”, как восприятие – к данности из самого первоисточника, к сознанию того, что предмет постигается “из первоисточника”, в его “настоящей” живой самостности» (Гуссерль, 2009: 15). Для этих наций Европа становится мощным интенциональным объектом, ради достижения которого осуществляется сознательная работа по переосмыслению, а зачастую и радикальному отторжению собственного недавнего исторического опыта. Этот процесс сопряжен с глубоким, а порой и травматичным, пересмотром идентичности, который можно рассматривать как попытку трансцендентальной редукции по отношению к советскому прошлому – для новой «европейской» самости.
Интенциональный акт, направленный на «поворот к Европе», воплощенный в ЕС и НАТО, требует от этих обществ демонстрации не только политико-экономической трансформации, но и смыслового разрыва с советской эпохой. Это порождает специфические феномены сознания коллективного субъекта. В Латвии и Эстонии, например, это выразилось в жесткой политике в отношении гражданства и языка с 1990-х гг., продолжающейся по сей день, интенционально направленной на восстановление досоветской национальной государственности и маргинализацию русскоязычного населения (Манаев, 2012).
Музеи оккупации в Риге и Таллинне не просто служат хранилищами артефактов, а выступают материализованными интенциональными актами, конституирующими смысл прошлого исключительно как периода иностранного господства и оккупации. Подобным образом Литва активно актуализировала свою историю как части средневековой и раннемодерной Европы (Великое княжество Литовское), интенционально отодвигая советский период на периферию национального нарратива.
В Молдове стремление к Европе, особенно ярко проявившееся в движении за объединение с Румынией в начале 1990-х гг. и в подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, сопровождалось болезненным внутренним расколом. Попытки конституировать идентичность, основанную на румынском языке и латинской графике, противопоставлялись в смысловом поле советскому наследию, воплощенному в Приднестровье и в значительной части населения, сохраняющего ориентацию на Россию и русский язык.
Переименование государственного языка в «румынский», несмотря на конституционное название «молдавский» и снос памятников советской эпохи в Кишиневе – это видимые интенциональные акты, направленные на символическое «вынесение за скобки» советской составляющей молдавской идентичности ради утверждения ее исключительно европейского вектора, хотя этот процесс остается незавершенным и оспариваемым.
Грузия после «революции роз» 2003 г. предприняла, пожалуй, наиболее радикальную попытку интенционального переориентирования после Украины. Активное ее движение в сторону НАТО и ЕС сопровождалось не только политическими реформами, но и масштабной кампанией декоммунизации и дерусификации. Демонтаж советских памятников, переименование улиц, перенос праздника Дня Победы с 9 мая – все это были интенциональные акты, направленные на разрыв смысловой связи с советским прошлым и конституирование новой идентичности как древней европейской христианской нации, лишь временно попавшей под чужое влияние. Конфликт 2008 г. с Россией стал мощным катализатором этого интенционального сдвига, окончательно закрепившего вектор ориентации на Запад в коллективном сознании значительной части общества, несмотря на потерю территорий.
Армения, балансируя между геополитическими реальностями, также демонстрирует социально-политическое тяготение к европейским ценностям и структурам (участие в программах Совета Европы, Восточного партнерства), что проявляется в развитии гражданского общества, ориентированного на европейские стандарты, хотя и при сохранении более осторожного подхода к символическому разрыву с советским прошлым и стратегическим связям с Россией.
Этот комплекс интенциональных актов, направленных на присоединение к Европе через отрицание советского наследия, порождает фундаментальный феноменологический вопрос об аутентичности. Э. Гуссерль настаивал на возвращении «к самим вещам» (zu den Sachen selbst) – к непосредственному опыту сознания. Однако в стремлении сформировать новую идентичность через отрицание старой существует риск подмены одной навязанной смысловой структуры (советской) другой, внешне привлекательной, но столь же абстрактной («европейской»). Глубинные слои исторического опыта, культурные синтезы, сформированные за десятилетия и века, включая и советский период, могут подвергаться не феноменологическому исследованию, а простому вытеснению.
Как предупреждал М. Хайдеггер в «Бытии и времени», развивая гуссерлевскую интенциональность в сторону заботы (Sorge), забвение подлинного бытия (Seinsvergessenheit) опасно: «Этот рок, который надо мыслить бытийно-исторически, однако неизбежен потому, что бытие только тогда и может просветлить в его истине хранимое им различие бытия и сущего, когда само это различие станет собственно событием. А как оно станет событием, если сущее сперва не будет охвачено крайним забвением бытия и одновременно бытие не придет к своему, метафизически непостижимому, безусловному господству в качестве воли к воле, которая прежде всего дает о себе знать единственно через первенство сущего (предметно-действительного) над бытием?» (Хайдеггер, 1993: 180).
Постсоветские общества в их интенциональном порыве к Европе рискуют не столько «потерять» идентичность, сколько заменить одну форму ее отчуждения (советскую идеологическую) другой – на этот раз через подчинение внешнему идеалу «европейскости», требующему зачастую не осмысленного усвоения, а лишь формального соответствия. Подлинная идентичность, как показал феноменологический анализ, рождается не из простого отрицания прошлого или слепого следования новому идеалу, а из длительного и непрерывного усилия сознания по осмыслению всего континуума своего исторического бытия во всей его сложности и противоречивости.
Заключение . Предпринятый в данной работе феноменологический анализ, опирающийся на фундаментальные положения теории Э. Гуссерля о интенциональности сознания, позволил раскрыть развитие государства не как простую эволюцию институтов, а как динамический процесс коллективного смыслообразования (Гуссерль, 2020: 184). Государство конституируется и непрерывно переопределяется в актах коллективной интенциональности, направленной на него как на источник порядка, идентичности, легитимности и норм.
Применение методологии феноменологической редукции Э. Гуссерля дало возможность отвлечься от предзаданных идеологических схем и обратиться к непосредственному опыту конституирования государственного феномена в сознании сообщества, выявив, что кризисы и трансформации суть отражения глубинных сдвигов в этой интенциональной структуре.
В ходе социально-философского анализа современных траекторий развития государств постсоветского пространства через призму типологии рациональности было выявлено принципиальное различие в характере коллективной интенциональности. Россия демонстрирует устойчивую ориентацию на атрибуты классической рациональности, стремясь конституировать государство как монолитную, предопределенную сущность в условиях глобальной турбулентности. Напротив, большинство постсоветских стран оказались в зоне интенсивной смысловой трансформации, характеризующейся признаками постнеклассической рациональности. Их коллективная интенциональность направлена не на фиксацию стабильного образа, а на активное переопределение государства как незавершенного проекта, что проявляется в перманентном пересмотре идентичности, легитимности власти, геополитических ориентаций и моделей социального устройства.
Ключевым интенциональным объектом для этих обществ стала Европа, а именно - блоки ЕС и НАТО, сближение с ними потребовало сознательной, зачастую радикальной работы по переосмыслению и отторжению советского исторического опыта. Этот процесс, рассмотренный нами на примерах политики гражданства в Прибалтике, языковых реформ и декоммунизации в Молдове и Грузии, а также геополитического выбора Армении, материализовался в конкретных интенциональных актах: переименовании улиц, сносе памятников, создании музеев оккупации, изменении символических дат. Эти акты были направлены на «вынесение за скобки» советского прошлого как периода чуждого господства, что можно интерпретировать как попытку масштабной трансцендентальной редукции в поиске новой идентичности.
Таким образом, сущность выявленного феноменологического разрыва заключается не в простом отрицании прошлого, а в его радикальной интерпретации как периода, утратившего легитимность и актуальность для конституируемого настоящего. Это двухвекторный процесс: с одной стороны, его образует активное вытеснение прежних смыслов (которыми являются символы, нормы и вся советская идентичность) из актуального поля коллективной интенциональности, которая проявляется в процессе декоммунизации и интенционального разрыва. С другой - сознательное и планомерное конструирование новой реальности, направленной преимущественно на Европу как на нормативно-ценностный горизонт. Этот разрыв создает зону напряженности между стремлением к новой онтологической устойчивости и неизбежной фрагментарностью формирующейся идентичности.
Социально-философское исследование, проведенное в данной работе, открывает несколько перспективных направлений для дальнейших научных изысканий и практического применения полученных данных. Во-первых, возможно углубиться в сравнительный анализ того, как разные модели интенционального разрыва (радикальные и эволюционные) в различных постсоветских странах влияют на устойчивость формирующихся политических систем и социальную сплоченность. Во-вторых, актуальным представляется изучение роли негосударственных акторов - таких как цифровые сообщества, некоммерческие организации, интеллектуальные сети -в формировании и трансляции коллективной интенциональности в условиях постнеклассической рациональности, а также их роль во взаимодействии или конкуренции с властвующими структурами в процессе смолообразования.
Таким образом, подлинное конституирование устойчивой и аутентичной государственной идентичности в постсоветском контексте требует не столько разрыва или слепого следования новым идеалам, сколько напряженного, непрерывного усилия коллективного сознания по феноменологическому осмыслению всего континуума своего исторического бытия во всей его сложности, противоречивости и многослойности.