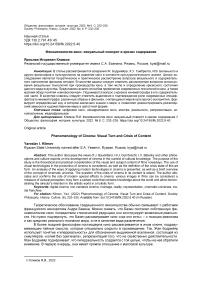Феноменология кино: визуальный поворот и кризис содержания
Автор: Климов Ярослав Игоревич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 6, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются воззрения Ж. Бодрийяра, Х.У. Гумбрехта, И.В. Беленького и других философов и культурологов на развитие кино в контексте культурологического знания. Целью исследования является теоретическое и практическое рассмотрение вопросов визуального и содержательного наполнения фильмов сегодня. В качестве задачи следует отметить рассмотрение вопросов использования визуальных технологий при производстве кино, в том числе и определение кризисного состояния данного вида искусства. Представлен анализ способов применения современных технологий в кино, а также краткий обзор понятия «киновселенная». Поднимается вопрос о кризисе кинематографа в его содержательной части. В качестве новизны следует отметить выделение и подтверждение роли современных спецэффектов в кинематографе: различные образы в фильмах, считающиеся мерой культурного восприятия, формируют определённый код, в котором заключено знание о мире, и позволяют демонстрировать режиссёрский замысел в художественном мире в целостной форме.
Цифровое кино, ненарративное кино, монтаж, реальность, репрезентация, киновселенные, медиафраншиза
Короткий адрес: https://sciup.org/149140390
IDR: 149140390 | УДК: 130.2:791.43/.45 | DOI: 10.24158/fik.2022.6.40
Текст научной статьи Феноменология кино: визуальный поворот и кризис содержания
Теоретическое обоснование традиционного киноискусства обычно связывают с работами французского кинокритика Андре Базена. Можно сказать, что Базен построил собственную феноменологию кино: посредством «технической редукции» оно конструирует возможные реальности. Но нужно подчеркнуть, что Базен рассматривает кино «как оно есть» – с позиции реализма и как средство реального познания мира, а не в качестве вида развлечения.
В более поздней философии постмодерна кино рассматривается в ином ключе, подразумевающем тайные смыслы, которые специально сокрыты в произведении. Так, Жан Бодрийяр использует понятие «гиперреальность» для обозначения выдуманной вселенной, состоящей из симулякров, «копий без оригинала», репрезентаций того, что не свойственно действительности. Жан Бодрийяр подчёркивает, что гиперреальность создается с той целью, чтобы на неё обратили внимание. В первую очередь, она имеет прямое отношение к массовой культуре.
О кино и гиперреальности он пишет следующее: «Одновременно с этим стремлением к абсолютному совпадению с реальным, кино приближается также к абсолютному совпадению с самим собой – и в этом нет противоречия… Гипотипизация и зрелищность. Кино плагиаторствует у самого себя, вновь и вновь самокопируется, переделывает свою классику, реактивирует свои мифы, переделывает немое кино таким образом, что оно становится более совершенным, нежели изначальное немое кино, и т. д.: все это закономерно, кино заворожено самим собой как утраченным объектом, в точности так, как оно (и мы тоже) заворожено реальным как исчезнувшим референтом»1. И далее: «В своих сегодняшних попытках кинематограф все больше и все с большим совершенством приближается к абсолютному реальному, с его банальностью, с его правдоподобием, с его обнаженной очевидностью, с его занудством и вместе с тем с его заносчивостью, с его претензией на то, чтобы быть реальным, непосредственным, будничным, – а это самая безумная из всех затей»2.
Многие кинокритики полагают, что современное кино переживает кризис идей, выражающихся в отсутствии оригинальных сюжетов и стремлении компенсировать этот дефицит эффектным и реалистичным изображением. Например, в фильме «Гравитация» 2013 года (режиссер Альфонсо Куарон) около 60 % экранного времени занимают компьютерные спецэффекты, а лица актеров Сандры Буллок и Джорджа Клуни – единственное средоточие живой игры в фильме (по режиссерскому замыслу персонажи-космонавты обличены в скафандры) – «вклеены» в сгенерированное изображение. Критики отметили прорывные технологии съемки, несмотря на стереотипный сюжет. Обозреватель портала Afisha.ru С. Зельвенский написал: «История о выживании и связанном с ним перерождении могла произойти и многократно в кино происходила – где угодно, хоть в пустыне, хоть в горах, хоть в море, но Куарон выбрал самые эффектные декорации на свете: за его пределами». Однако при этом сюжет – это «лишь инструментарий, размер, рифмы, но не сами стихи»3. Фильм создан с целью демонстрации зрителю красивой картинки, производящей впечатление абсолютной реальности.
Отсутствие оригинальных сюжетов в культуре – это идея, разработанная в структурализме: любые повествования состоят из функциональных единиц, подобных тем, которые выделяли ученые-классики: В. Пропп в теории волшебных сказок4 и К. Леви-Стросс в своих эссе о мифах5. В рассказе «Четыре цикла» писатель Х-Л. Борхес в структуралистском ключе замечает, что сюжеты не сочиняются – а лишь сводятся к четырем базовым историям: об укрепленном городе («Троя», 2004 г.), о возвращении («Гравитация», 2013 г.), о поиске («Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», 1981 г.) и о самоубийстве божества: «Сколько бы времени нам ни осталось, мы будем пересказывать их – в том или ином виде»6. Тот же Леви-Стросс в структурной антропологии отмечал, что теоретически сюжеты сможет компилировать компьютер. Действительно, в компьютерных технологиях до сих пор нет принципиальной грани между творчеством и псевдотворчеством.
По существу, обзор новых жанров в целом показывает, что их новизна заключается в сугубо «красивой картинке» и возможности вовлечения зрителя в созданный кинематографистами мир, причем акцент ставится на предмете, а не на способе повествования.
Вместе с тем Ноэль Кэрролл признавал, что в современном ненарративном кино традиционный сюжет не играет столь существенной роли. В то же время Джим Макклелан, комментируя фильмы «Трон» и «Газонокосильщик», пишет, что де факто современные цифровые блокбастеры снимаются не ради рассказывания истории, а ради демонстрации спецэффектов, которые привлекут максимальное число людей в кинотеатры: «глупый, бессвязный, совершенно предсказуемый сюжет скорее отвлекает от реального зрелища – смены анимированных с помощью компьютера картинок… Повествование, возможно, необходимо лишь для того, чтобы вовлечь зрителя в процесс исследования виртуального мира»7. Вероятно, в грядущем сюжет ненарративного кино будет функционировать лишь как пригласительный билет в виртуальный мир, где зритель сможет свободно двигаться в любом направлении (пусть и с учетом авторских и других ограничений)8.
Однако, Х.У. Гумбрехт в своей работе «Производство присутствия: чего не может передать значение» предполагает, что кризис идей в современном искусстве может быть объяснен общей усталостью от культуры значения: «Иногда вместо бесконечных попыток представить себе, что бы еще могло быть иным, мы словно соприкасаемся с таким уровнем нашей жизни, где нам просто нужно, чтобы вещественный мир плотнее прилегал к нашей коже»1. Однако из его же теории следует, как мы отмечали выше, что суть эстетического переживания состоит в колебании между эффектами присутствия и эффектами значения. Цифровое кино способно бесконечно погружать человека в воображаемые миры, однако, во-первых, мы испытываем потребность в осознании глубины сюжета, во-вторых, по словам В.С. Скляровой, один из аспектов современного визуального поворота – это «накопление обществом “усталости” от технически производимого зрелища и возвращения интереса к живому зрелищному действу, происходящему в общем для “действующих лиц” и аудитории пространстве, сочетающему спонтанное и спрограммированное, исключительно созерцательное и интерактивное, использующее весь арсенал доступных человеку средств коммуникации, в том числе и все богатство и разнообразие средств невербальной коммуникации» (Склярова, 2017). Можно вернуться к размышлениям Ф. Трюффо о методе Хичкока: в предисловии, сравнивая мэтра с популярными голливудскими киноделами, Ф. Трюффо характеризует их как крепких «ремесленников», способных получить на экране любую картинку – пеплум, вестерн, сентиментальную мелодраму, имеющих часто свой собственный «конек», но не художественную манеру: «не испытывая настоятельной потребности в соотнесении своей работы с собственными мыслями о жизни, людях, деньгах, любви, они становятся лишь специалистами шоу-бизнеса»2. Ролан Барт писал о «нулевой степени письма» – деперсонализированном языке, к которому пришла в итоге литература и посредством которого происходит массовое производство фильмов. «В нейтральных типах письма… нетрудно различить, с одной стороны, порыв к отрицанию, а с другой – бессилие осуществить его на практике, словно Литература, которая вот уже в течение столетия пытается превратить свой лик в форму, лишенную всяких черт наследственности, обретает таким путем большую чистоту, чем та, которую способно ей придать отсутствие всяких знаков, позволяя наконец сбыться орфеевой мечте: появлению писателя без Литературы»3. Возможно, «кино без актера» движется в подобном направлении – к отсутствию какой-либо идеологии в условиях неразличимости фиктивного и относящегося к фундаментальной реальности.
В то же время И.В. Беленький в послесловии к «Истории кино» представляет логику развития кинематографа, напоминающую парадигмальную модель науки Т.С. Куна: «из хаоса событий в истории кино постепенно вырисовывается довольно стройная композиция. Каждая следующая часть начинается с кризиса на предыдущем этапе, развитие происходит катастрофически, через слом»4. В этом процессе есть три «магистрали» – творчество, технологии и рынок, причем бурное движение по одной становится причиной застоя на какой-то другой. По сути история кино развивается циклично, и в соответствии с этой логикой автор предсказывает в относительно скором времени «еще одно обновление кинематографа… когда сегодняшнее увлечение видеоэффектами, новыми/неновыми технологиями, компьютерными играми и немеренными деньгами войдет в противоречие либо с изменившимися вкусами зрителей, либо с экономическими возможностями кинопроизводителей, либо и с тем, и с другим»5.
Виртуальная/синтетическая модель – это доступный наблюдению, различимый посредством органов чувств объект, напоминающий реально существующие объекты, лишенные некоторых существенных свойств. Цифровые технологии позволяют создавать синтетические объекты, достоверность которых складывается из трех компонентов: «осознанности» мира, который окружает объекты, точности воспроизведения самого объекта и «произведенного» присутствия – зрительского ощущения нахождения внутри картинки (П. Милгрем, Ф. Кишино, Х.У. Гумбрехт).
Тенденции в современном цифровом/гибридном кино работают на повышение качества визуальной составляющей в кадре: создание киновселенных, использование максимально достоверных спецэффектов и повышение интерактивности произведений.
Реальность спецэффектов может быть рассмотрена с нескольких точек зрения, однако с позиции эпистемического реализма они способны уменьшать достоверность кинопроизведения (даже будучи безукоризненно исполненными), поскольку зритель обладает знанием о производстве кино. Доказательство тому – негативная реакция зрителей на оживление «легенд» (например, в таких фильмах, как «В поисках Джека» и «Высоцкий: спасибо, что живой»). Возможный механизм неприятия состоит в том, что сгенерированный/гибридный персонаж мыслится как совершенно детерминированное, лишенное внутреннего мира существо, которому, в отличие от недетерминированного актера, невозможно полноценно сопереживать.
Интерактивность фильма – способность зрителя взаимодействовать с ним. Сильная форма интерактивности – возможность воздействия на структуру сюжета – достигается в некоторых образцах POV-кино, которое пока остается экспериментальным форматом и в ряде случаев неотличимо от компьютерных игр. Традиционное кино слабо интерактивно, однако более высокий, промежуточный уровень интерактивности достигается за счет появления киновселенных (медиафраншиз) и фактического сотворчества кинематографистов и зрителей (в разных формах – от создания фанфильмов и обзоров до изучения киновселенной посредством научного метода).
Киновселенные (медиафраншизы) – это виртуальные миры с собственной мифологией и «населением» в виде действующих лиц фильма, непосредственно не появляющихся в одном сюжете одновременно. Развитая киновселенная или медиафраншиза детализирована («эффект Флеминга»), причем детали часто понятны её фанатам. Поскольку кинокомпании, являющиеся держателями авторских прав на персонажей, заинтересованы в увеличении прибыли за счет расширения аудитории, киновселенные постепенно сближаются (фильм «Первому игроку приготовиться»).
Таким образом, кризис в современном кино связан с тем, что крупнейшие киностудии и режиссеры обычно делают акцент на визуальной составляющей кино в ущерб оригинальности сюжета. В будущем возможна как окончательная победа ненарративного кино (Н. Кэролл) и фильмов «без актера», так и ренессанс нарративного искусства в соответствии с циклической моделью развития кинематографа (И.В. Беленький).
Соответственно, фильмы с оригинальными сюжетами являются большой редкостью, так как многие студии не хотят нести финансовые риски, не веря в успех того или иного проекта. Отсутствие творческой свободы у режиссёра на съёмках также отбивает желание создавать что-то особенное и новое в данном виде искусства. Так, спецэффекты, которыми были увлечены Дж. Кэмерон и С. Спилберг при создании своих фильмов в 1980–1990-е годы, когда это было в новинку, сегодня присутствуют практически в каждом фильме, меняя смыслы и художественную ценность произведения на яркую и сочную картинку.
Список литературы Феноменология кино: визуальный поворот и кризис содержания
- Склярова, В.С. Визуальные повороты и зрелищная культура: теоретические аспекты и культурные практики // Вестник культуры и искусств. 2017. № 4 (52). С. 116-121.