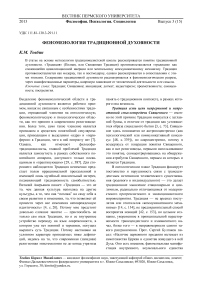Феноменология традиционной духовности
Автор: Товбин Кирилл Михайлович
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (15), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе методологии традиционалистской школы рассматривается понятие традиционной духовности. «Традиция» (Полная, или Священная Традиция) противопоставляется «традиции» как сложившейся цивилизационной инерции или ментальному коммуникативному механизму. Традиция противопоставляется как модерну, так и постмодерну, однако рассматривается в сопоставлении с этими эпохами. Содержание традиционной духовности рассматривается в феноменологическом разрезе, через манифестационные параметры, напрямую зависящие от человеческой деятельности и ее смысла.
Традиция, священное, инициация, догмат, надысторизм, преемственность, самоценность, пострелигия
Короткий адрес: https://sciup.org/147202933
IDR: 147202933 | УДК: 111.81-130.3-291.11
Текст научной статьи Феноменология традиционной духовности
Церкви» [12, с. 41]. Принадлежность к Традиции есть принадлежность к Священному, потому компоненты Традиции есть не столько пути к Священному, сколько проявления самого́ Священного .
Феноменологическую сторону Традиции можно назвать стороной динамической, это пространство взаимодействия человека со Священным. Определенные действия, ожидание ответа, получение ответа, восприятие ответа — это зафиксировано в нижеприведенных пунктах, имеющих весьма условную, рабочую структуру. Феноменология Традиции фиксирует проявления Священного; религиоведы, сгенерировавшие понятие Священного в современном религиоведении, само Священное относили только к феноменологии, в онтологическое его измерение не заглядывая [43, с. 11; 66, с. 16]. С одной стороны, такой подход верен, ибо косный онтологический разрез Традиции может быть сведен недобросовестным или секуляризованным умом до набора идеологем (что и происходит при пострелигиозной имитации Традиции [52]). Иными словами, показ Традиции исключительно с онтологической стороны формирует представление о Традиции как о мировоззрении, что принципиально не отвечает самой сути Традиции. Феноменология Традиции дополняет картину, повествуя о действии Священного. Подчеркнем: не о действии человека перед Священным, но о действии самого́ Священного . Гиперболизация этого элемента может нас привести к оккультному эзотеризму, не допускающему никакого философского анализа. Недооценка, напротив, приведет к постмодернистскому игровому представлению о Традиции как о стилистическом, жестикуляционном и символическом наборе. Потому постараемся удержаться в «золотой середине», каковой, по нашему мнению, является философия традиционалистской школы (Р. Генон, Ю. Эвола, Т. Буркхардт, С.Х. Наср, А.Г. Дугин, В.В. Аверьянов и др.), дающей нам и идейно-методологическую основу, и методику разбора Традиции.
Посвященность
Инициация, по описанию Генона, является отличительной чертой традиционной духовности [16, с. 361], преодолевающей дистанцию трансцендентного и имманентного. По словам Дугина, «это возврат к Божеству того, что от него отдалилось, это приход к Истоку вышедшего из него, это движение вспять» [31, с. 380]. Посвящение имеет в своем арсенале множественные ритуалы, смысл которых можно выразить логически. Но вербализация — как разумное исповедание упования — никогда не была чертой подлинной инициации. Только духовность модерна, превращаясь в посюстороннюю идеологию, стала требовать устной «надписи» у священнодействия. Настоящее посвящение осуществлялось на основе свободной воли субъекта посредством мистических операций. Соответственно, повреждение посвящения могло произойти не столько на логическом уровне, препятствующем выбору и подступу к самому ритуалу, сколько на уровне таинства [56, с. 127]. Таинства внутри каждой традиции всегда изменялись и архаизовались с течением времени, отходя от простоты совершения и понимания. Заморозка чина, которым таинство совершалось, превращение его в косный ритуал есть препятствие неминуемой профанации (понимаемой метафизически, а не психологически). Характерный пример — определенные молитвы из чина православной Божественной литургии, ставшие тайными (читаемыми молча только священниками) для препятствия профанации [24, с. 157–161]. Также можно привести в пример русские православные иконостасы, отгородившие пространство Святого от обозрения молящихся [55, с. 441].
Инициация сохраняется при увеличении зазора между Священным, к которому посвящение должно привести, и мирским [33, с. 342]. С течением времени преодоление этого расстояния для десакрализующегося человека становится все более трудным — исчезает некая врожденная способность к посвящению [64, с. 435]. Соответственно, действительно посвященных становится все меньше, а посвящение оборачивается якобы посвящением, лишь имитирующим священнодействия, на чем строится симулятивная псевдотрадиционность некоторых пострелигий.
Традиционной инициации Генон противопоставлял контринициацию [16, с. 411]. Поскольку, по мнению мыслителя, модерн есть перевертыш Традиции, то, копируя сам принцип посвящения в сакральное, модерн создает искусственные знаково-символические инструменты десакрализации мышления. Более того, наиболее действенным способом является использование именно нежизнеспособных осколков Традиции — их мозаика есть лучшее противодействие Традиции, чем использование «гражданских ритуалов» наподобие российских новогодних [21, с. 662].
Отойдя от контринициативности модерна, но не возвратившись в иницитивность Традиции, постмодерн плодит множественные псевдоинициа- ции, мозаично и произвольно комбинирующие самые различные элементы, ставя результирующим параметром экстаз. На таком якобы посвящении зиждутся как новые харизматические движения, так и харизматизация традиционных религий — в частности, католичества (харизматические мессы) и православия (гуруистическое старчество, фетишизм реликвий [49]).
Догматизм
Под догматизмом понимается безусловная преданность предмету веры. В традиционной духовности догматизм не равен современному фундаментализму, возникшему как «тоска по догматам» [10, с. 275]. С позиции традиционалиста догма есть уточнение священного смысла человеческого бытия. Догма возникает на критичной стадии соскальзывания по раскручивающейся книзу спирали мировой апостасии, когда замутняется чистота предания, передающегося от поколения к поколению и от жреца — простолюдинам. В этой ситуации возникает нужда в обращении к вторичной, манифестационной человеческой инстанции — разуму. Так возникает рационализированная догма как указание и предохранение от совершения ошибки, могущей исторгнуть человека из священного пространства и времени [38, с. 6]. Традиция догматизируется, и с этого момента внешним признаком верности Традиции становится следование догме [60, с. 270].
Отклонение от догмы есть ересь, однако ересь выражается не только в рационалистическом отклонении от буквы закона. Поскольку догма есть наружное обозначение Традиции, ересью является не столько отклонение от догмата, сколько отклонение от Традиции, обозначаемой догмой. Принцип Традиции как синтеза писаной и неписаной частей блестяще кристаллизован св. Викентием Лиринским († 450): «Во что верили повсюду, всегда, все» [71, p. 333]. В православной духовности высшей вехой догматизма являются решения VII Вселенского собора, осуждающего как душегубительную ересь всякое отклонение не только от прописанной догмы, но и от всей общепринятой христианской Традиции [27, с. 87]. Именно Седьмой собор интуировал — вследствие идейной войны с воинствующими профанаторами-иконоборцами — наступление десакрализации, выражающейся в оскудении способностей человеческого ума распознавать Священное в Традиции. Поэтому Собор жестко обозначил суть православия-ортодоксии, сделав кос- ность стилем православного образа жизни и богословия.
Представление о догматизме как строгом мировоззрении — основа современного секулярного фундаментализма, разграничение которого с традиционализмом есть тема особого исследования. С секулярной точки зрения ересь — выражение неправых мыслей. Такой подход не обнаруживает отклонения от Традиции современного расщепленного ума, заявляющего о верности Традиции, но отклоняющегося от нее на бытийственном и бытовом уровнях.
Полнота
Для человека, стоящего в Традиции, это стояние уже является результатом, а не способом достижения чего-то другого [67, p. 5]. В христианстве, к примеру, согласно учению преп. Иоанна Лест-вичника, молитва есть средство, а не условие Бо-гообщения [37, с. 239]. Более того, всякий верующий, стоящий в Традиции, не мнит себя таковым, считает недостойным, «грешным паче всякой меры» и непрестанно стремится выйти из этого состояния. Согласно Шуону, разрыв (секуляризация) сознания начинается именно тогда, когда отходит на второе место основная наша деятельность по соединению с Горним — молитва, а на первое место выходит прагматическая область — миропознание [72].
Особо параметр самоценности Традиции касается этической стороны поведения верующего. Для стоящего в Традиции морали как самоценности нет, она существует лишь как посыл, указатель на большее, как единый луч иерофаническо-го сияния [30; с. 148]. Абсолютизация некой абстрактной морали, равноценной самой себе [11, с. 178], есть черта современности, пытающейся возвести сложившийся образ поведения в формат «здравомыслия» [61]. По этой причине всякие ан-тимодернистские интеллектуальные начинания, как правило, начинаются с практикуемой аморальности. Напротив же, модернизация в первую очередь выражается в институционализации морали, например, посредством институционализированной Церкви или протестантской общины, превратившихся в контролеров и редакторов морали.
Современный традиционализм, как в теории, так и в практике, зачастую скатывается в соблазн демонизации: восстав против современности, ей пытаются неразборчиво противопоставить любую «антисовременность» [39]. Мир современности, несмотря на принципиальную эклектичность и дискретность, является цельным и самодостаточным. Потому война против него приводит к попыткам создания антикопии — элементам современности противопоставляются «аналоги» из старины [29; с. 77]. В итоге такой подражательности мы не получим ничего, кроме экстравагантного ретрофутуризма, эксплуатирующего наглядные элементы Традиции и потому становящемуся противоядием против Полной Традиции. Согласно Генону, лишь привлечение «высших принципов» может сделать «восстание против современности» результативным [18, с. 252], но никак не механическое воспроизводство отщепов Традиции и не идолопоклонство перед ее обломками, чем грешит духовная практика современных религий, именующихся традиционными.
«Повседневность подлинности»
Следует сказать о пронизанности традиционными сакральными принципами каждого аспекта быта. С точки зрения Традиции, во-первых, не может быть мест, отъединенных от сакрального: оно проявляет себя по-разному на политическом, национальном, индивидуальном, бытовом уровне, но все эти проявления едины в своем Истоке [19, с. 258]. Во-вторых, в Традиции особое внимание уделяется именно семье, повседневности, быту как сторонам истинной индивидуальности [23, с. 171].
Богослужением является не какая-то особая деятельность, но каждая сторона деятельности индивида и общества должна тяготеть к обнаружению своей сакральной стороны, и традиционная духовность являет множественные обряды и символы, сопровождающие хозяйственные работы, совместные домашние действия и даже супружеские взаимоотношения [45, с. 380]. Для стояния в Традиции вся повседневность должна выглядеть как «лучезарный храм с вечным служением литургии, объединяющей Бога и мир» [34, с. 349].
В традиционном обществе именно повседневность является счетчиком стояния человека в Традиции. Если бытовая сфера претендует на то, чтобы быть чем-то «простым», посюсторонним — это признак секулярного расщепления сознания. Если обращение к Богу присутствует во всех, даже самых интимных и доведенных до автоматизма мелочах, — значит, верующий действительно стоит в Традиции всем своим существом, а не только его рационально частью [13, с. 143].
Община и иерархия
Горизонтальная связанность — такая же основа Традиции, как и вертикальная. Налажен- ность связей в разных социальных группах и иерархия самих этих групп внутри более обширных создает условия для обеспечения передачи Традиции. Отсутствие связей уже на самом первом уровне — семейном — разрушает способность Традиции самовоспроизводиться. Спаянность семейная, клановая, этническая, национальная, кастовая, цеховая сама по себе не является условием для содержания Традиции, но без нее Традиция неуклонно стремится к фикции. Община же — как «высший нравственный образ человечества» [5, с. 195; 6] — является полем осуществления горних принципов, полем перехода из зверобытия в бого-бытие. Философ Тарас Сидаш подчеркивает:
«Община — тот же Божественный Ум, в котором момент единства уже не дан непосредственно, но отступил на задний план и сокрылся» [50].
Община является телом Священного — в этом причина как горизонтальной спаянности общины, так и внутренней иерархичности и кастовости [40, с. 52–54]. В идеале община подобна дереву, в котором каждый орган исполняет свое назначение [57, с. 25–27]. Это нашло отражение как в догматах Православной Церкви о соборном (кафолическом) устройстве [59, с. 81], так и в философских учениях славянофилов [47, с. 374] и — в особенности — Платона, наиболее ярко отразившего традиционную взаимосвязь социальной структуры и сакральности: «…Сословие жрецов, обособленное от всех прочих, затем сословие ремесленников, в котором каждый занимается своим ремеслом, ни во что больше не вмешиваясь, и, наконец, сословия пастухов, охотников и земледельцев; да и воинское сословие, как ты, должно быть, заметил сам, отделено от прочих, и членам его закон предписывает не заботиться ни о чем, кроме войны. <…> [этот уклад. — К.Т. ] как нельзя лучше подходит к священнодействиям в честь богини, ибо сродни ей само́й (курсив мой. — К.Т. )» [44, с. 428, 431; также см.: 16, с. 246].
На социальном уровне традиционная общинность проявляет себя как философия неравенства, кастовая философия [63, с. 10–11], утверждающая различие уровней служения в соответствии с различными способностями и возможностями, определенными изначально [17]. Виталий Аверьянов пишет:
«Сословия в <…> несут в себе не только социальное, но и духовное измерение, они фиксируют тот образ жизни и те убеждения, которые способен реализовать человек определенной высоты духа. Сословия, касты символизируют не- одинаковость возможностей разных людей. Бывает право и мораль, созидаемая по образу жизни и суждения святого и пророка. В другом случае — по образу и духу аристократии. В третьем случае — согласно представлениям торговых, ремесленных, земледельческих сословий, смысл которых в более обширном воспроизводстве жизненного цикла. В четвертом случае — по мнениям сословий наемных работников и невольников, жаждущих во что бы то ни стало нивелировать все социальное бытие (пафос равенства). Возможна и представима и мораль пятого случая, в котором ее определяют вообще асоциальные группы, не желающие обустраивать окружающую жизнь и нести какую-либо обязанность. Наконец, в шестом, наиболее важном для нас случае существует и в конце истории грозит восторжествовать нрав и закон существ, вовсе неопределимых никакими сословными рамками. Это будет закон паразитический, закон существ-оборотней, способных имитировать разные общественные ценности, но неспособных эти ценности производить» [2, с. 93].
Наличие зазора между кастами приводит к нарушению духовной связи каждого из субъектов общины со Священным. Строгое распределение на касты уже является родом ритуала: старательно исполняя свое предназначение, каждый элемент священного социального тела содействует цельности и здоровью этого тела — в этом корень традиционного освящения повседневности и быта. Исчезновение кастового видения социального — одна из наибольших травм модерна — она нанесена именно индивидуальному сознанию, обрекши его на тягу к миражам псевдоиндивидуальности.
Надындивидуальность
Традиционная духовность самое существенное внимание уделяет философии личности — обоснованию проблемы смысла жизни и деятельности, уточнению понятия «Я» и соотношения его с понятиями «МЫ» и «ОНИ». Проблема эта по-разному лишается в разных традиционных упованиях: с индивидуалистской, коллективистской или соборнической позиций. Однако проблемы бытия личности в мире, полноценности или неполноценности индивидуального бытия, личной ответственности, самосознания и меры свободы — одни из первичных в традиционных религиях, особенно в монотеистических [41, с. 381].
Личность есть отображение Высшего начала, осуществляемое в Традиции посредством ритуа- ла — инструмента, соединяющего образ с первообразом [35, с. 100]. Мировая история есть последовательное затирание этого нача́ла. Традиционализм исходит из принципа затертости изначальной личностности (проистекавшей согласно Элиаде из «прамонотеизма» [25, с. 118]), которая может вновь проясниться только посредством длительной и комплексной духовной работы. Провозглашение авторитета, приоритета и уникальности личности есть не более чем мираж, однако ведущий свой происхождение именно из христианского учения о потенциальном богопо-добии человека.
Проблема «мирских догматов» модерна заключается в рассмотрении мира через призму фантазмов «личности», «индивида», «субъекта», в прояснении значимости мира для этих понятий, в действительности являющихся лишь понятийными условностями. Бытийственность Нового времени определяется через условную личностность. Даже Священное Рудольфом Отто в первую очередь проявляется через особую ощущаемость его человеком [43, с. 21]. Традиционное представление о личности в корне иное. Традиция надличностна: человек есть лишь возможность для Священного , потому свое наибольшее значение человек приобретает, становясь таким проводником [68, p. 110]. В православном богословии это именуется обоже́нием . Как говорит св. Афанасий Александрийский, «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом» [8, с. 260]. В Традиции «стать человеком» означало наиболее приблизиться к своему идеальному, световому значению [29, с. 111–112], от которого реальное состояние — лишь функция, тяготеющая к «инфрачеловечности» [20, с. 19], предел которой мы видим в сегодняшнем превращении человека в постчеловека, в киборга («В прошлом боялись того, что люди станут рабами. В будущем надо бояться того, чтобы люди не стали роботами» [58, с. 94]), в звероавтомат («Зверь безгласно, тихо дышит, механизм бездушно считает» [31, с. 368].)
Надысторизм
Традиция внеисторична. История любого человеческого сообщества есть движение относительно Традиции как вечных высших принципов бытия [62, с. 10; 70, p. 182]. В итоге, как красочно описал Гесиод, все сообщества так или иначе от Традиции отходят, что и сопровождает их дезинтеграцию [22, с. 54–57], потому рассмотрение Традиции через антропологическую призму неминуемо уводит нас от самой проблематики Традиции в область ее поступательного искажения [46, с. 21]. Историческая феноменология Священного проявляется в его постепенном отхождении от «мирского» и доступности только посредством сопереживательных практик, техника которых не изменяется под давлением истории [43, с. 257–259; 66, с. 46–47]. Однако Эвола указывал на вырождение само́й способности к этому сопереживанию, в оскудении которой и заключается регресс истории [64, с. 435– 436]. История есть деградация Традиции [29, с. 415], поскольку фиксирует вычленение и оформление какого-то элемента традиционного мира в самостийное образование (например, «человек», «капитализм», «наука»). Уже само наблюдение за историей есть признак антитрадиционности, поскольку такое наблюдение запечатлевает сравнения дня сегодняшнего со стариной; традиция же — не нечто прошлое, но нечто вечное, вневременно́е [32, с. 104].
Исходя из этого, «отщепы истории», даже внешне лишенные жизнеспособности, в традиционном мышлении имеют гораздо больший вес, чем самое изощренное мудрствование. Так, Б.А. Успенский подчеркивал, что в русском старообрядчестве под натиском модерна произошла сакрализация текстов, звучаний, произношений — не только переводов, как принято считать [54, с. 239; 53, с. 3]. Таким образом, косный текст ставился важнее грамматики. Текст мертв только снаружи: чем более косной и неподвижной является его оболочка, тем в большей сохранности его содержание.
Бесспорно, в переломные моменты истории в обществе, стремящемся обрести устойчивость, вспыхивает интерес к периодам собственного прошлого, насыщенным целеполаганием. Таким образом, происходит процесс, который старооб-рядцы-часовенные именовали «подысканием отцов»: исходя из травмированной современности подыскиваются и произвольно комбинируются элементы прошлого, долженствующие — по мысли редактора этих впечатлений — стать опорой для «возрождения» [69; 36, с. 285]. И вместо Традиции является симулякр, симптомирующий лишь о потере ощущения смысла своего исторического бытия. Так порождаются недолговременные кентавры наподобие «динамического консерватизма» [1, с. 38], «модернизации традиционности» [26, с. 348–351], «синергии традиционализма и модернизма» [9, с. 87–88], могущие быть лишь недолговременной идеологической вешкой, но никак не основой для вдохновения социума присутствием сакрального, чем по своей сути и явля- ется истинная Традиция. На этой же волне происходит нынешняя гальванизация самых разнообразных форм традиционной духовности.
С другой стороны, истинно традиционное понимание истории всегда осмысленно и телеоло-гично [29, с. 83; 65, с. 68–71; 66, с. 88]. При отрицании одномерного августиновского прогрессизма традиционная духовность настаивает на неком раскрытии смысла времен и смысла человека [15; 28, с. 140]. Постмодерн, нейтрализуя Традицию комбинаторикой ее внешних форм, настаивает на замкнутом и бессмысленном циклизме, в котором единственным смыслом деятельности может быть только игра — сеймоментный всполох в колесе финального цикла. И игра эта не несет никакой нагрузки, кроме удовлетворения наиболее низменных чувств. Согласно традиционной логике истории любое сообщество непременно сползает к социальной однородности низшей касты, ни на что не годной и управляемой только посредством внушения или страха [30, с. 422], чем и характеризуется современная постполитика [51].
Традиционная духовность в своем феноменологическом измерении здесь приведена в сравнении с пострелигиозностью, в наши дни умело имитирующей традиционную внешность. Собственно феноменологического измерения у Традиции нет — его выделение есть условный, рабочий прием, долженствующий показать определенные стороны Традиции современному секулярному человеку, показать так, чтобы не скатиться ни в постмодернистские комбинаторические игры с архаикой, ни в модернистскую концептуализацию Традиции как пройденной стадии развития «цивилизации», ни в холистский язык Традиции — метафизический и закрытый от современного исследователя мощными понятийными барьерами. Безусловно, это исследование имеет смысл только в соединении с изложением онтологической стороны традиционной духовности, поскольку здесь отмечены лишь формы манифестации Священного в восприятии его человеком. Без онтологического, горизонтального подхода к Традиции чисто феноменологическое, вертикальное ее обнаружение может перейти в фантастичность, являющуюся в постмодерне умело используемой вакциной против реального обнаружения Традиции.
Список литературы Феноменология традиционной духовности
- Аверьянов В.В. Либерально-консервативная трактовка социокультурной традиции в контексте отечественной философской мысли//Вопросы культурологии. 2009. № 5. С. 34-38
- Аверьянов В.В. Преодоление доктрины «светского государства»//Северный Катехон. 2005. № 1. С. 93-99
- Аверьянов В.В. Традиция и традиционализм в общественной мысли России (60-90-е годы ХХ века)//Общественные науки и современность. 2000. № 1. С. 68-77
- Аверьянов В.В. Традиция как методологическая проблема в отечественной культурологии ХХ века: автореф. дис. … д-ра филос. наук. М.: ГАСК, 2012. 33 с
- Аксаков К.С. Передовые статьи газеты «Молва»//Аксаков К.С. Государство и народ/ред. О.А. Платонов. М.: Ин-т рус. цивилизации, 2009. С. 192-229
- Аксаков К.С. О современном человеке//Аксаков К.С. Государство и народ/ред. О.А. Платонов. М.: Ин-т рус. цивилизации, 2009. С. 238-297
- Андреев А. Традиционализм как методологическая основа//Against Post-Modern World: матер. конференции (15-16.10.2011., Москва, центр «Tradition»). М., 2011. URL: http://against-postmodern.org/andreev-traditsionalizm-kak-metodologicheskaya-osnova (дата обращения: 08.03.13)
- Афанасий Великий. Слово о воплощении Бога-Слова, и о пришествии Его к нам во плоти//Афанасий Великий. Творения. Ч. I. Свято-Троицкая Сергиева лавра: Собственная тип., 1902. С. 191-263
- Багдасаров В.Э. Традиционализм и модернизм: проблема синергийного моделирования//Модернизм и традиционализм: проблема ценностного и политического баланса России. М.: Научный эксперт, 2008. Вып. 5(14). С. 8-139
- Бибихин В.В. Философия и религия//Бибихин В.В. Язык философии. СПб.: Наука, 2007. С. 258-271
- Библер В.С. На гранях логики культуры. М.: Рус. феноменологическое об-во, 1997. 440 с
- Булгаков С., прот. Православие: Очерки учения Православной Церкви. Киев: Лыбидь, 1991. 240 с
- Буркхардт Т. Сакральное искусство Запада и Востока. Принципы и методы. М.: Алетейя, 1999. 216 с
- Быстров В.Ю. Понятие традиции и проблемы философии религии//Религиоведение. 2004. № 1. С. 154-161
- Вирт Г. Священный год//Дугин А.Г. Знаки Великого Норда. М.: Вече, 2008. С. 285-288
- Генон Р. Заметки об инициации//Генон Р. Символика креста. М.: Прогресс-традиция, 2008. С. 141-442
- Генон Р. Индийская кастовая доктрина//Полюс. 2010. № 1. С. 23-24
- Генон Р. Кризис современного мира (пер. Любимовой Т.Б.)//Генон Р. Избранные произведения. М.: Беловодье, 2004. С. 149-300
- Генон Р. Кризис современного мира (пер. Мелентьевой Н.В.)//Генон Р. Кризис современного мира. М.: Эксмо, 2008. С. 5-140
- Генон Р. Очерки о традиции и метафизике. СПб.: Азбука-классика, 2010. 320 с
- Генон Р. Царство количества и знамения времени//Генон Р. Кризис современного мира. М.: Эксмо, 2008. С. 443-712
- Гесиод. Труды и дни//Гесиод. Полное собрание текстов. М.: Лабиринт, 2001. С. 51-75
- Гиренок Ф.И. Патология русского ума. Картография дословности. М.: Аграф, 1998. 416 с
- Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике. Сергиев Посад, 1918. 290 с
- Горохов А.А. Феноменология религии Мирчи Элиаде. СПб.: Алетейя, 2011. 160 с
- Гофман А.Б. Социология традиции и современная Россия//Россия реформирующаяся: Ежегодник. Вып. 7/ред. М.К. Горшков. М.: Ин-т социологии РАН, 2008. С. 334-351
- Григорий (Граббе), еп. Каноны Православной Церкви. Ч. 1. Джорданвилль: Holy Trinity Orthodox Mission, 2001. 98 с
- Джемаль Г.Д. Дауд vs Джалут. М.: Социально-политическая мысль, 2010. 388 с
- Дугин А.Г. Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли. М.: Евразийское движение, 2009. 744 с
- Дугин А.Г. Философия политики. М.: Арктогея, 2004. 616 с
- Дугин А.Г. Философия традиционализма. М.: Арктогея-Центр, 2002. 624 с
- Дугин А.Г. Четвертая политическая теория. Россия и политические идеи XXI века. СПб.: Амфора, 2009. 351 с
- Жирар Р. Насилие и священное. М.: Новое литературное обозрение, 2000. 400 с
- Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: в 2 т./ред. В.В. Нехотин. М.: Ин-т ДИ-ДИК: Квадрига, 2009. 688 с
- Зильберман Д.Б. Традиция как коммуникация: трансляция ценностей; письменность//Вопросы философии. 1996. № 4. С. 76-105
- Илларионов Г.А. Возвратные процессы традиционализма на рубеже XX-XXI вв.//Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2012. № 2. С. 281-286
- Иоанн Лествичник. Лествица. СПб.: Типография № 6, 1995. 316 с
- Карташев А.В. Вселенские соборы. Минск: Харвест, 2008. 640 с
- Корнев С. Трансгрессивная революция: Посвящение в постмодерн-фундаментализм. 2001. URL: http://kornev.chat.ru/trans_re.htm (дата обращения: 08.03.13)
- Куценков А.А. Эволюция индийской касты. М.: Наука, 1983. 326 с
- Лосский В.Н. Догматическое богословие//Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. Сергиев Посад: Изд-во СТСЛ, 2012. С. 379-545
- Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. М.: Мысль, 1983. 284 с
- Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. 272 с
- Платон. Государство//Платон. Собр. соч.: в 4 т. Т. 3. М.: Мысль, 1994. С. 79-420
- Плюханова М.Б. О национальных свойствах самоопределения личности: самосакрализация, самосожжение, плавание на корабле//Из истории русской культуры. Т. 3. М., 1996. С. 380-459
- Полонская И.Н. Социокультурная традиция: онтология и динамика: автореф. дис.… д-ра филос. наук. Ростов н/Д: РГУ, 2006. 56 с
- Самарин Ю.Ф. Революционный консерватизм. Письмо Р. Фадееву по поводу его книги «Русское общество в настоящем и будущем (чем нам быть)»//Самарин Ю.Ф. Православие и народность/ред. О.А. Платонов. М.: Ин-т рус. цивилизации, 2008. С. 369-426
- Самыгин С.И., Нечипуренко В.И., Полонская И.Н. Религиоведение: социология и психология религии. Ростов н/Д: Феникс, 1996. 672 с
- Сержантов П., диак. Православие и харизматизм//Богослов.Ru: Научно-богословский журнал. М., 2007-2012. URL: http://www.bogoslov.ru/text/397746.html (дата обращения: 08.03.13)
- Сидаш Т.Г. От Евангелия к Единоверию. Сайт Тараса Сидаша. СПб., 2011. URL: http://sidashtaras.ru/?idx=466 (дата обращения: 09.03.13)
- Товбин К.М. Параметры постполитики//VI Всерос. конгресс политологов «Россия в глобальном мире: Институты и стратегии политического взаимодействия» (Москва, 22-24 ноября 2012 г.): материалы. М.: РАПН, 2012. С. 460-461
- Товбин К.М. Постмодернистская религиозность в традиционалистической оценке//Знание. Понимание. Умение: Информ.-гуманит. портал. 2012. № 5. М., 2006-2013. URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2012/5/Tovbin_Postmodern-Religionism/(дата обращения: 06.08.13)
- Успенский Б.А. Избранные труды. Т. I: Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Языки русской культуры, 1996. 608 с
- Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI-XVII вв). М.: Аспект Пресс, 2002. 558 с
- Флоренский П.А, свящ. Иконостас//Флоренский П.А, свящ. Собр.соч.: в 4 т. Т. 2/сост. Андроник (Трубачев), иг. М.: Мысль, 1996. С. 419-526
- Флоренский П.А., свящ. Философия культа (Опыт православной антроподицеи)/сост. Андроник (Трубачев), иг. М.: Мысль, 2004. 685 с
- Флоровский Г.В. Богословские отрывки//Путь: Орган русской религиозной мысли/ред. Н.А. Бердяев. 1931. № 31. С. 3-29
- Фромм Э. Современное положение человека//Фромм Э. Догмат о Христе. М.: Олимп: АСТ-ЛТД, 1998. С. 89-96
- Хомяков А.С. Ответ русского русскому (Письмо к редактору «L'Union Chretienne» о значении слов «кафолический» и «соборный». По поводу речи отца Гагарина, иезуита)//Хомяков А.С. Всемирная задача России/ред. О.А. Платонов. М.: Ин-т рус. цивилизации, 2008. С. 75-82
- Чаттерджи С., Датта Д. Введение в индийскую философию. М.: Изд-во иностр. лит., 1955. 378 с
- Шмеман А., прот. Богослужение в секулярный век/Сайт об отце Александре Шмемане. URL: http://www.shmeman.ru/modules/myarticles/article_storyid_5.html (дата обращения: 06.03.13)
- Эвола Ю. Люди и руины//Эвола Ю. Люди и руины. Критика фашизма: взгляд справа. М.: АСТ, 2007. С. 5-268
- Эвола Ю. Метафизика войны. Тамбов: Полюс, 2008. 168 с
- Эвола Ю. Оседлать тигра. СПб.: Владимир Даль, 2005. 510 с
- Элиаде М. Аспекты мифа. М.: Инвест-ППП, 1994. 240 с
- Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд-во МГУ, 1994. 144 с
- Cutsinger J.S. Introduction//Prayer Fashions Man: Frithjof Schuon on the Spiritual Life/ed. J.S. Cutsinger. Bloomington: World Wisdom, 2005. P. 5-15
- Guénon R. Perspectives on Initiation/ed. S.D. Fohr. NY: Sophia Perennis, 1946. 308 p
- Hobsbaum E. Inventing Traditions//The Invention of Tradition/ed.: E. Hobsbaum, T. Ranger. Melbourne: Cambridge University Press, 1984. P. 1-14
- Nasr S.H., Jahanbegloo R. In search of the sacred: A conversation with Seyyed Hossein Nasr on his life and thought. Santa Barbara: Praeger, 2010. 408 p
- Pelikan J. The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine. Vol. 1: The Emergence of the Catholic Tradition (100-600). Chicago: The University of Chicago, 1971. 420 p
- Schuon F. Christian Gnosis//Aymard J.-B., Laude P. Frithjof Schuon: life and teachings. NY.: State University of New York Press, 2004. P. 133-135