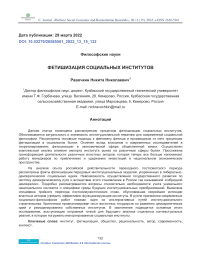Фетишизация социальных институтов
Автор: Равочкин Никита Николаевич
Журнал: Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research @bulletensocial
Статья в выпуске: 13 (15), 2022 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена рассмотрению процессов фетишизации социальных институтов. Обосновывается актуальность и значимость институциональной тематики для современной социальной философии. Рассмотрены основные подходы к феномену фетиша и производным от него процессам фетишизации в социальном бытии. Отмечен вклад классиков и современных исследователей в теоретизированиях фетишизации в экономической сфере общественной жизни. Осуществлен комплексный анализ влияния импорта института рынка на различные сферы бытия. Прослежена трансформация деятельности различных властных акторов, которая теперь все больше напоминает работу менеджеров по привлечению и удержанию инвестиций в национальном экономическом пространстве. На анализе опыта российской действительности переходного постсоветского периода рассмотрены факты фетишизации передовых институциональных моделей, укорененных в либерально-демократических социальных идеях. Невозможность осуществления государственного развития по чистому демократическому пути и вследствие этого становление в России так называемой гибридной демократии. Подробно рассматриваются вопросы относительно необходимости учета уникального национального контекста и специфики среды будущих институциональных преобразований. Выявлена специфика тройного перехода посткоммунистических стран, обусловившая скорейшие интенции властных акторов учредить эффективно функционирующие институты. В русле прагматики современных социально-философских работ показан один из альтернативных путей институционального строительства. Критически проанализирован опыт восточных государств по развитию демократических идей и ремоделированию собственных институтов. В заключение подводятся основные итоги исследования, выступающие отправной точкой для будущего анализа отдельных контекстуальных реалий, в которые погружены импортированные социальные институты.
Институт, фетишизация, общество, рациональность, актор, современность, контекст
Короткий адрес: https://sciup.org/14122782
IDR: 14122782 | DOI: 10.52270/26585561_2022_13_15_132
Текст научной статьи Фетишизация социальных институтов
Современная социально-философская повестка уже давно вышла за абстрактные и оторванные от реальности и практической пользы теоретические построения. Примечательно, что сегодня предметное поле обозначенного раздела представляет собой динамично и стремительно развивающуюся область знания, в том числе и благодаря выделению проблематики из смежных дисциплин. Таким образом, проективная обращенность социально-философских исследований позволяет зафиксировать, что построение валидных объяснительных схем невозможно без погружения в прикладные контексты.
Одним из наиболее недостаточно исследованных в социально-философском дискурсе феноменов сегодня являются институты. Характерно, что в других областях знания, прежде всего в экономике, социологии, политологии и юриспруденции, институты являются объектом повышенного внимания, тогда как их предельные основания и фундаментальные обобщения несмотря на богатый функционал и универсальную объяснительную роль, которую они играют в общественном развитии, все еще не нашли достаточного отклика в философии.
II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Не погружаясь в размышления, почему институциональные исследования в философии все еще редки, следует обратить внимание, что функционирование данных структур в определенных контекстуальных реалиях напрямую зависит от понимания их идеального замысла, а также возведения, ремоделирования или же адаптации наличной архитектоники под вызовы современности. В мире, чаще всего в странах полупериферии и периферии, внешне безупречные институты импортировались акторами преобразований без учета критериев и параметров общественной жизни, в результате чего далеко не все кристаллизованные идеи институтов были воплощены в эффективные социальные формы. На наш взгляд, подобные разночтения и не(до)понимания гносеологического плана по институциональным преобразованиям могут приводить к тем неблагоприятным социальным следствиям, буквально превращая рассматриваемые установления в фетиш.
Следует отметить, что в своем первоначальном варианте «фетиш» интерпретировали преимущественно в качестве религиозного основания мировоззрения или же первобытных форм верования, однако со временем этот феномен прочно укоренился в других сферах социального бытия, распространившись в экономические, политико-правовые, культурные и иные координаты. Так, в экономической сфере процессы фетишизации упоминаются применительно к интенциям индивидов, стремящихся удовлетворить свои потребности посредством обладания теми или иными (порой не всегда действительно необходимыми) предметами. В частности Т.И. Трубицына подчеркивает, что в процессе экономической фетишизации «происходит наделение материальных объектов и материальных процессов сверхъестественными свойствами, персонификация вещей, персонификация экономических отношений, отождествление экономических функций вещи, функций экономических отношений с их ролью в реальном экономическом существовании» [8, с. 376]. По сути, именно эту условно называемую «фетиш-природу» выделял К. Маркс, полагая, что создаваемые человечеством товары будто обретают собственное существование, а вещи, соответственно, наделяются определенными магическими свойствами, за счет которых и возникает возможности их управления. Фетишизация в экономической сфере имеет субъективно-объективную природу. Первая составляющая данного феномена определяется товарно-денежными отношениями, господствующими в конкретном обществе, в то время как субъективная сторона детерминирована познавательными процессами. По сути, именно последнее позволяет выявить закономерности функционирования фетишизации в любых срезах социального бытия, а также сформировать и переосмысливать процессы управления обществом.
Выходит, сам запуск процессов фетишизации происходит через сращивание наделения отдельных символов каким-либо значением и непосредственно самих объектов, принадлежащих к конкретной сфере общественной жизни. Анализ многочисленного эмпирического материала, относящегося к современности, позволяет увидеть, что в своем влиянии на человека и общество фетишизация обладает существенными детерминационными возможностями, позволяя обеспечить интересы и потребности людей, тем самым позволяя конституировать риторику и активность властных акторов и обозначить панораму задач социального развития.
Интересующие нас социальные институты также несвободны от влияния Постмодерна и уж тем более не могут не зависеть от нелинейной динамики современного мира. Вследствие этого, как мы уже отмечали, некоторые из данных структур, имеющие вполне приемлемую форму, содержательно могут быть имитациями, рудиментами прошедших эпох или же вовсе фетишем, не способными эффективно регулировать общественные отношения, решать насущные проблемы и отвечать на различные и стремительно возникающие вызовы. Здесь вспоминается одна из ведущих постмодернистских социально-философских концепций – «Общество спектакля» Ги Дебора. Этот мыслитель диагностирует трансформацию социума в спектакль, который категорируется как объективное видение мира [1]. Приведенная метафора говорит о том, что субъективное восприятие предмета изучения становится основным источником понимания окружающей действительности, но ведь именно субъективные факторы лежат в основе формирования фетиша. В рамках «Общества спектакля» изменяется логика процессов восприятия объектов, в результате чего не только производство самих предметов, обладающих конкретной ценностью, но и мнений о них, которое чаще всего формируется в максимально возвышенных и позитивных оттенках, оказывает сильно детерминационное воздействие на модели преобладающих стилей жизни.
Очевидно, что в отличие от Маркса Дебор уже говорит о фетишизации надстройки. Исследователь И.Н. Степанова достаточно подробно объясняет, как «экономическое отчуждение пронизывает все общество, товарный фетишизм представляет социокод капиталистического общества, превращая его в иллюзию, видимость, мир псевдо-наслаждений, сущность которого – производственные отношения – маскируются массовым потреблением товаров» [6, с. 84]. Таким образом, «спектакль» скорее становится близким по духу еще одному духу времени – «потреблению», как нельзя лучше оправдывающим отчуждение на текущем историческом отрезке. Взаимопревращения (не) имеющих ценность предметов в мир и наоборот – вот как выражается фетишизация в полной мере. Ги Дебор отмечает, что люди выставляют напоказ свои связи с товарами, что приводит общественные порядки к неустойчивости, де-факто такие связи мало чем отличаются от фетишизма религиозного. Распространение передовых экономических теорий по всему миру позволяет сформировать новые формы онтологического и ценностного бытия человека в обществе, определяя к тому же иерархии конкретных видов отношений, а их репрезентации в том или ином порядке задают векторы общественного развития, ведущие социальные группы к достижению идеала. Итак, одним из самых известных современных социальных установлений становится институт рынка, сформировавший одноименную совокупность отношений. Т.И. Трубицына подчеркивает, тезисы о сущности рынка А. Смита дошли до современности в несколько содержательно измененных формах, поскольку сама их трактовка не просто искажает первоначальный смысл, но попросту выглядит несоразмерно узкой [8]. Несмотря на стремления теоретиков рынка схватить при помощи абстракции плюрализм отношений, а также реально имеющееся многообразие функционирующих рынков, представленное положение дел пытается настоять на наличии единственного универсального механизма практической реализации данного института. Примечательно, что фетишизации института рынка открывает возможности для трансляции и использования данного концепта в различных областях, что порой совершенно не к месту, вследствие чего на практике не реализуется целостное представление об экономически обоснованных моделях взаимодействия между агентами. В итоге мы можем наблюдать становление самых различных вариантов рыночных форм: платная система образования, здравоохранения; сокращение государственного финансирования; агрессивная и недобросовестная конкуренция, не предусматривающая «места под солнцем» для малых и средних игроков.
В свою очередь производными из метаморфоз фетишизации рынка становятся некорректные, порой доходящие до полярности, представления касающиеся не только самого рынка, но главным образом перечисленных услуг, наделяя их такими смыслами, чем они по своей сути вовсе не являются. Соответственно, разночтения влекут за собой не столько негативные последствия для отдельного человека, но сказываются на устойчивости наличных социальных порядков.
Также заслуживает внимания проблематика, касающаяся фетишизации инвестиций, поскольку данный институт позиционируется едва ли не как «панацея от всех бед». Необходимо отметить, что на современном этапе развития государства используют комбинации административных (государственные заказы, проектное управление) и сугубо экономических (развитие оборота или потребления) методов воздействия на инвестиционные потоки, трансформируя подобные вливания в предмет фетишизации, выступающий отныне в качестве важнейшего основания для развития всего государства. Действительно, фетишизация института рынка способствует тому, что капитал, мыслимый в современных концепциях в качестве объекта почитания, отныне становится мировым, выходя далеко за пределы дискуссий политических оппонентов[10]. Рискнем предположить, что в этом и заключается одна из множества причин, почему возложенные на властных акторов непосредственные функции сегодня утрачивает свою значимость или в лучшем случае уходят на второй план. В самом деле, большая часть выполняемых ранее действий и форм проявления активности, связанных с управлением государственными делами, в современном мире оказались замещены «коммерческими ориентациями» (к слову, не всегда понимаемыми в полной мере даже самими влиятельными субъектами), нацеленными на привлечение и удержание капитала в пространстве национальных государств, что позволило бы реализовывать истеблишменту персональные устремления.
Фактически мы становимся свидетелями многочисленных подтверждений того, что деятельность властных актов, претерпевая существенные изменения, отныне может восприниматься в качестве «менеджериальной активности», которая, как известно, сосредоточена на выполнении завязанных с финансами KPI. На фоне децентрализации современного мира и общей утрате значимости национальных государств большинство социальных институтов, в том числе и ряда политико-правовых, скорее следует определить не иначе, как организации, деятельность которых связана с обслуживанием интересов и капитала транснациональных компаний. Вдобавок к этому приведем заслуживающую внимания позицию Т.М. Шатуновой: «Политика проиграла битву экономике еще и в том плане, что теряют смысл политические движения, и рабочее движение в их числе. Оно не в силах бороться против безличных метафизических сил, несоизмеримых с человеческими возможностями, и «народ покидает агору» [10, с. 167].
Повсеместное следование денежным интересам обусловило характер произошедших с социальной структурой трансформаций. В частности, труд и капитал перестают в полной мере взаимодействовать друг с другом, что, в конечном счете, приводит к метаморфозам статуса человека в системах экономических отношений различных стран. Наконец, уникальность эмпирических контекстов и разница в рациональности акторов и преследуемых ими ориентациях и интересах позволяет увидеть, как неодинаково может быть понята сама идея института капитала, а также реализован ее импорт на практике. В самом деле, заимствование института капитала может привести к макромасштабным социальным следствиям, среди которых, конечно же, следует назвать начало глобализации мира и развертывание процессов, способствующих унификации цивилизации с последующей утратой множеством национальных образований своей идентичности и уникальности. Одним из эмпирических контекстов заимствования различных социальных институтов является российская действительность. Первоначально целесообразность такого опыта была обоснована необходимостью осуществления институциональных преобразований в переходный постсоветский период развития страны. Однако популярность такого варианта институциональной модернизации, основанного на заимствованиях эффективно функционирующих структур, не учитывала параметров собственной национальной среды, куда акторы намеревались произвести импорт.
Однако применительно к странам полупериферии и периферии это с легкостью объясняется не только цейтнотом, но и тем состоянием, в которых оказались сети интеллектуалов, призванные продуцировать идеи для социального развития – острая необходимость выживания, ресоциализации и элементарная нехватка ресурсов сил и времени «на долгую и кропотливую работу по сбору и систематизации собственных культурно-институциональных образцов различных эпох» [5, 260]. По сути, повышение транспарентности границ между государствами и общепризнанный передовой характер либерально-демократических социальных идей побудили властных акторов из не принадлежащих к Западу стран заимствовать аналогичные институты для создания хоть сколько-нибудь схожей среды и архитектоники, которая бы поспособствовала преодолению кризисных тенденций. Как мы уже заметили выше, перенос формы ни в коей мере не гарантирует импорт тождественного или же превышающего по своей функциональной эффективности социального института. Таким образом, отказ различных акторов, осуществляющих институциональные преобразования, от витально необходимого учета особенностей национального пространства способствует трансформации переносимых структур в малопродуктивные формы, обладающих примерно той же самой сакральной ценностью, что и предметы фетиша.
Анализ отечественной истории последнего десятилетия ХХ столетия не раз позволяет убедиться в сказанном выше: многочисленные субъекты, вовлеченные в процессы институциональных преобразований, априори маркировали в качестве эффективных такие их модели, которые в кратчайшие сроки не могли быть адаптированы к актуальным российским реалиям. В своей работе И.Э. Вильданов, О.В. Митрошина и В.К. Падерин также демонстрируют, что в условиях кризисов государственных порядков заимствованные без учета национальной специфики социальные институты не выполняют возложенные на них функции, что почти всегда требует анализировать преемственность данных структур, а именно перенастраивать старые установления и только через имплементацию идей импортируемых институтов запускать новые. Однако отступление от представленного алгоритма так называемого «перезапуска» привычных для определенного государства, правда уже в неоформах, социальных институтов не позволяет в полной мере возложить на них выполнение конкретных задач, вследствие чего и производились скорейшие заимствования не конгруэнтных национальным условиям зарубежных структур. Как правило, различные акторы придерживались подобных вариантов по причине того, что западный мир изначально обладал множеством конфигураций социальных институтов, апробированных в национальных контекстах, из которых и осуществлялся выбор, зачастую без должных попыток адаптации заимствуемых структур к существующим условиям. Дополнительно институциональные дисфункции и разрывы усугублялись тем, в случае недостаточной или вовсе нулевой эффективности одного/нескольких из блоков применительно к выполнению возложенных задач он мог быть заменен на аналогичный по своим целевым назначениям, но еще до импорта функционирующий в совершенно иных реалиях и по другим принципам. Парадоксально, что изменение функциональных принципов уже вновь импортируемых взамен недавно перенесенных на национальную почву институтов, как правило, игнорируется акторами и вовсе не оценивается, к примеру, как «флуктуационное», представляющее собой отклоняющееся от средних значений и свойств социальной системы значение [5]. Действительно, такой подробный анализ действий отечественных акторов социальных преобразований, осуществленных ими в переходный период может рельефно прорисовать контуры понимания, почему не было достигнуто запланированное повышение качества используемых институтов, которые были имплантированы в условия российской действительности. Пример России является показательным, в том, что заимствования институтов не всегда сообразуются с реальной социальной практикой, а функционал институтов, пусть и в его различных версиях, по определенным причинам не используется. Для других эмпирических контекстов это вовсе не означает, что в случае аналогичного импорта обязательно произойдут негативные сдвиги, однако сами факты интеграции социальных институтов в различных формах могут быть связаны не с реальной необходимостью их внедрения, но ввиду ориентаций и установок заимствовать конкретные формы общественного устройства [7]. По сути, этот промежуточный вывод становится еще одним аргументом в пользу того, как институциональные заимствования оказываются фетишем, получившими практическое воплощения в координатах отдельного общества.
Смеем утверждать, что психологически фетишизация институтов связана с привлекательной формой институтов, их «упаковкой», позволяющей посредством медиарепрезентаций отражать их функциональную эффективность, делая акцент исключительно на их конкрентых преимуществах. Можно сказать, что социальные институты, задающие новый ритм и условия жизни, становятся тем «товаром», который страны-лидеры мирового развития посредством «промоушена» стремятся «продать» другим участникам международных отношений для ремоделирования наличной архитектоники. В этом мы можем отчетливо увидеть объективацию тенденций глобализации, вследствие чего в не-западном мире акторы будут стремиться воздвигнуть передовые институты, однако открытым остаются вопросы относительно:
-
1. Их реальной необходимости на данном этапе общественного развития (таковым примером может стать Субсахарская Африка, включившаяся в систему мировых отношений в 50-е гг. ХХ века);
-
2. Возможности самостоятельного управления новой средой без участия стран ядра. Интегральным негативным социальным следствием из обоих вопросов становится закономерное появление зон напряженностей, не способствующих устойчивости национальных порядков. Таким образом, опасность фетишизации социальных институтов без попыток их соответствующей адаптации к конкретным условиям усматривается в затяжном характере кризисов общественной жизни, появляющихся на фоне невозможностей предлагать адекватные ответы на появляющиеся возможности, риски и угрозы.
На другом полюсе институциональной трансплантации находятся многочисленные факты устремлений акторов трансформированные в существующую архитектонику с осознанием последующей неопределенности социального развития. Отличие такого подхода от слепого копирования заключается в анализе альтернатив, сравнении реальных сроков, а при необходимости прохождении через несколько итераций и критической ревизии уже проделанных действий в целях минимизации последующих издержек. По сути, в перечне этих действий и заключается рациональный компонент практики институциональных заимствований. Если страна не может вырастить свои институты, то стратегически мыслящие акторы, обладающие необходимыми аналитическими компетенциями и/или полномочиями, становятся ответственными за конкретные выгоды и издержки при реализации институциональных решений. Подобная алгоритмизация оказала бы инструментальное значение для институционального дизайна в странах посткоммунистического блока в Восточной Европе, которые, как известно, вынуждены были проделать «тройной переход»: 1) авторитаризм ^ демократия; 2) плановая социалистическая экономика ^ либерально-рыночная модель; 3) автаркия ^ интеграция в мировое пространство. Конечно, руководство рациональным аспектом в подобных переменах почти наверняка позволяет определить истоки и основания институциональных заимствований. Здесь целесообразно рассмотреть кейс другого региона, представители которого отталкивались от понимания, что демократия будет развиваться от наличия в государстве рыночных отношений, но никак не наоборот. При этом следует понимать, что такие государства, как Китай или Южная Корея, хоть и начинают реализовывать идеи демократии после имплантации в национальную среду рыночных отношений, они не смогут реализовать данный проект в полной мере. В частности, это определяется тем, что данные страны все еще являются приверженцами разновидностей авторитарных режимов, которые в значительной степени остаются детерминантой стабильно функционирующих институтов. Поэтому считаем правомерным согласиться с И.И. Кузнецовым в том, что «развитое рыночное общество лишь до определенной степени формирует условия для того, чтобы демократия стала оптимальным способом согласования интересов и достижения консенсуса» [2, с. 78]. Этот опыт интересен тем, что в первую очередь он позволяет преодолеть фетишизацию институтов при их заимствовании. При этом страны азиатского региона продемонстрировали целесообразность осуществления институциональных заимствований в связи с обеспечением определенного уровня стабильности общества и его структурных элементов, но не переноса понравившихся и не адаптированных под контекст моделей рассматриваемых социальных структур по инерции, да еще в периоды турбулентности. На наш взгляд, для данного исследования не просто уместна, но и справедлива мысль К. Оффе по поводу того, что «правовая и представительная политическая система станет адекватной и воспроизводящей легитимность только тогда, когда уже достигнута определенная ступень автономного экономического развития» [3, с. 11].
В противном случае, непродуманная и нерациональная имплантация любых институтов в общества, которые не готовы к ней по различным признакам, приведет к неэффективности и фетишизации переносимых структур. Более того, насаждение неаутентичных национальным паттернам образцов институтов способно лишь умножать различные издержки в сколько-нибудь срочной перспективе, задавая определенные рамки и серьезные препятствия для легитимации преобразований.
Также отметим, что фетишизация социальных институтов, их заимствование и применение на практике в конкретном обществе основано не только на объективных общественно-исторических и экономических факторах общества, но и на субъективных способах восприятия предстоящих перемен в общественном сознании, но также и на выгоде конкретной группы лиц, представители которой определяют возможность, желательности и необходимость использования и адаптации социальных институтов. Именно интерес, порой корыстный, самых различных в значительной степени определяет будущие траектории институционального движения: будут ли заимствованы новые структуры или останутся и будут преобразованы старые, уже имеющиеся. На основании таких интересов возникает возможность лоббирования институтов, вносимых и/или трансформируемых в обществе и государстве [4].
В процессе анализа различных форм заимствования социальных институтов в отечественной истории В.С. Сигитова приходит к выводу о том, что в истории российского государства можно выделять несколько этапов привнесения институционального опыта зарубежных стран [9]. Анализ применения таких заимствований показал противоречивые результаты, на основании чего она делает вывод о том, что для повышения качества импорта институтов требуется конвергенция социальных норм, дающих возможность сблизить траектории институционального развития. Позитивная, эволюционная, даже гибридная конвергенция норм может стать основанием заимствования социальных институтов, позволяя использовать ресурсы формальных и неформальных регуляторов для эффективной адаптации новых структур. Любое отклонение от эффективного нормативного основания и описанной конвергенции способно привести к фетишизации социальных институтов. Получается, эффективность заимствований социальных институтов и минимизация их фетишизации во многом будет зависеть от того, как, в какой форме будет подаваться в общественном сознании импорт таких институтов. В целом же насильственное насаждение пусть и эффективных в других контекстах, но чуждых массовому сознанию определенной страны, институтов также можно расценивать в качестве фетишизации. Это обосновано тем, что на практике реализуется их внешняя форма, или «фасад».
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение необходимо сказать, что любые институты, поддерживающие национальные порядки через функционирование в определенной архитектоники, не существуют изолированно друг от друга и подвержены изменениям. В проведенном исследовании было показано, что импорт рассматриваемых структур без анализа учета собственных контекстуальных условий приводит к тому, что любые, даже самые эффективные, институциональные модели приобретают тенденции к фетишизации, по сути, оказываясь инородными телами, функциональная значимость которых не только не отвечает актуальным задачам, но и может близиться к нулю.
Принимая длительный характер, процессы фетишизации не позволяют эффективно развиваться общественным связям и отношениям в национальных контекстах. В то же время анализ рассмотренных в статье примеров продемонстрировал альтернативный подход, при котором субъекты институциональных преобразований хоть и делают акцент на том или ином слое идей будущих институтов, с учетом уникальной среды они могут вырастить эффективные модификации первоначальных замыслов институциональных проектов.
Список литературы Фетишизация социальных институтов
- Дебор Г. Общество спектакля. М.: Логос, 1999. 224 с.
- Кузнецов И.И. Институциональные заимствования в политике: современные подходы // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2010. Т. 10. № 3. С. 74-80.
- Повороты истории: Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей. Т.2: Постсоциалистические трансформации в сравнительной перспективе. СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2003. 492 с.
- Пантелеева М.С. Структурный анализ зарубежных систем оплаты труда в строительной отрасли в условиях изменяющейся институциональной среды // Экономика и предпринимательство. 2015. № 4-2 (57). С. 204-208.
- Вильданов И.Э., Митрошина О.В., Падерин В.К.К вопросу об издержках импорта социальных институтов // Вестник экономики, права и социологии. 2014. № 4. С. 259-262.
- Степанова И.Н. Спектакль как форма детерминации социального поведения в концепции Ги Э. Дебора // Вестник Курганского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2015. № 5 (39). С. 83-85.
- Сухарев О.С. Институциональное планирование, траектории институционального развития и трансакционные издержки // Журнал институциональных исследований. 2012. Т. 4. № 3. С. 95-111.
- Трубицына Т.И. Тенденции фетишизации в современной экономике России // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2016. Т. 16. № 4. С. 375-379.
- Сигитова В.С. Теория отбора и ее связь с институциональными изменениями // Экономика и бизнес: теория и практика. 2016. № 2. С. 106-110.
- Шатунова Т.М. Социально-эстетическая онтология современности: эстетизация и глобализация // Ученые записки Казанского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2007. Т. 149. № 5. С. 166-180.